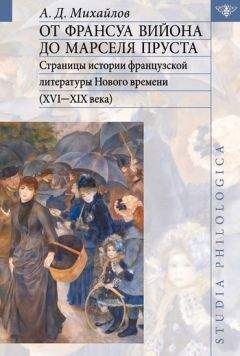«Он был слегка мизантроп, обладал едким умом»[357]. Это Мериме о Дарси. «Похож на свои сочинения: холоден, тонок, изящен, с сильно развитым чувством красоты и меры и с совершенным отсутствием не только какой-нибудь веры, но даже энтузиазма»[358]. Это молодой Тургенев о стареющем Мериме. К тому времени (февраль 1857 г.) французский писатель уже завершил лепку своего человеческого образа; в пору написания «Двойной ошибки» он был в самом начале этой работы. Но направление ее определилось давно. И тут перед нами несомненная человеческая трагедия. Открытый для любви и дружбы, Мериме с каждым прожитым годом все более разуверялся в них (и все-таки их неустанно искал), замыкался в себе, погружался в спасительный скепсис.
Об этом писали все, кто его знал или хотел понять. И. С. Тургенев: «Под наружным равнодушием и холодом он скрывал самое любящее сердце; друзьям своим он был неизменно предан до конца; в несчастии он еще сильнее прилеплялся к ним, даже когда это несчастие было не совсем незаслуженное <...> В нем с годами все более и более развивалось то полунасмешливое, полусочувственное, в сущности, глубоко гуманное воззрение на жизнь, которое свойственно скептическим, но добрым умам, тщательно и постоянно изучавшим людские нравы, их слабости и страсти»[359]. Ипполит Тэн: «В нем как бы жило два человека: один, живший в свете, сполна расплачивался за взятые на себя обязательства и сообразовывался с принятыми там условностями; другой, держащийся в стороне или даже над первым, с насмешливым видом и покорностью судьбе взирал окрест себя»[360]. Анатоль Франс: «Под маской холодного цинизма скрываются черты нежные и строгие, которых, однако, никто не видел. Застенчивый и гордый по природе, Мериме рано замкнулся в самом себе и еще в юности приобрел тот сухой и иронический облик, который сохранил на всю жизнь. Сен-Клер из “Этрусской вазы” – это он сам»[361].
Чувство одиночества преследовало Мериме долгие годы; им окрашены и его произведения, и, естественно, его письма. «Жениться мне уже поздно, – пишет он в 1855 г. одной из знакомых, – но мне хотелось бы найти какую-нибудь маленькую девочку и воспитывать ее. Мне не раз приходила мысль купить такого ребенка у цыганки, ибо, даже если мое воспитание и не принесло бы хороших плодов, я все же не сделал бы маленькое существо еще несчастнее. Что вы на это скажете? И как бы раздобыть такую девочку? Беда в том, что цыганки очень уж черны и что волосы у них, как конская грива. И почему только нет у вас какой-нибудь золотоволосой девчурки, которую вы могли бы мне уступить?»[362] Эта тема возникает и в других письмах. Так, в сентябре 1857 г. он признается г-же де Монтихо: «Мне кажется, что в жизни можно заниматься двумя вещами. Первая состоит в том, чтобы, если это возможно, избегать совершать глупости. Вторая же заключается в том, чтобы насколько возможно философски относиться к последствиям, коль скоро глупости наделаны. Вы знаете, как я провел лучшую часть своей жизни. Возможно, все это были глупости в духе пошлого романа. Но роман этот имел для меня довольно печальную развязку. Все мои ухищрения, все мои планы на будущее, правда, достаточно туманное, рухнули. У меня нет ни храбрости, ни сил на то, чтобы строить новые планы. Единственное преимущество, которое я смог бы теперь найти в женитьбе, это немного нежности во время болезни и особенно в тот весьма неприятный момент, когда надо будет отправляться в иной мир. Подходя к этому эгоистически, такое преимущество стоило бы обдумать. Но с другой стороны, все это ужасно – и ответственность перед женщиной, и заботы о ней, и то будущее, на которое ее обрекаешь. Как-то у меня был кот, и я очень любил с ним играть. Но когда у него появлялось желание навестить кошек на крыше или мышей в погребе, я задавал себе вопрос, могу ли я удерживать его около себя ради своего собственного удовольствия. И точно такой же вопрос задавал бы я себе, и с еще большими угрызениями совести, относительно женщины. Будь я уверен, что оставлю после себя что-то путное, я бы предпочел иметь девочку, которую я бы постарался воспитать очень хорошо. Но ведь это весьма сомнительная лотерея. Я думаю, что самое лучшее, это привыкнуть жить, как живет дерево, и этому покориться»[363].
Как многие замкнутые и самолюбивые люди, Мериме мог быть поразительно откровенным, и это бывала откровенность подлинная и искренняя, но – до определенных пределов. Мериме не боялся раскрыться – в разговорах или письмах, – так как знал, что положенной им самим черты он не перейдет, что самое сокровенное все равно останется в глубине его души. Это надо помнить, читая его переписку.
В момент знакомства с Женни Дакен в нем еще боролись романтические порывы юности с трезвостью зрелых лет. Но те ранимость и неверие в любовь и счастье, чем были отмечены характеры Сен-Клера и Дарси, все более овладевали его сердцем. И общение с Женни, влюбленность в нее и последующая дружба с нею приносили, конечно, удовлетворение и радость, но с годами способствовали развитию чувства одиночества, которое Мериме болезненно переживал при всей светскости, при всей открытости его жизни.
О письмах Мериме к его «незнакомке», о том, насколько можно (точнее, нельзя) им верить, с большой убежденностью, но очень неверно сказал в свое время П. В. Анненков. «Людям, занимающимся составлением характеристик замечательных современников на основании таких, по-видимому, несомненных документов, как подлинные письма, – писал он в воспоминаниях о Тургеневе, – можно только рекомендовать большую осторожность при выводах, к каким документы эти дают повод. В иностранных литературах мы имеем многочисленные примеры, к каким ложным заключениям приводят даже любопытные, а особенно весьма пикантные издания, опубликованные вскоре после смерти замечательных личностей и содержащие их интимную и задушевную переписку! (См. Lettres de Mйrimйe а une inconnue, переписку Варнгагена ф. Энзе с Алекс. Гумбольдтом, изданную г-жой Ассинг, и проч., проч.) Каждая переписка заключает в себе столько случайных настроений автора, столько желания сказать более того, что находилось в мысли и чувстве ее автора, что часто приговоры ее о людях и вещах противоречат действительному их значению. Издателю необходимо знать сущность коренных нравственных основ писателя, чтоб исправлять мимолетные увлечения его пера и не давать им смысла общественных обличений, чистосердечных откровений»[364].
Отдельное суждение, одна фраза в письме, передающие мимолетное настроение пишущего, могут, конечно, быть случайными (да и то не всегда). Но письма в целом, бесспорно, воссоздают облик их автора, его взаимоотношения с адресатом. Так было и с письмами Мериме к Женни Дакен.
Первые двенадцать писем написаны до встречи, все в 1832 г. Все это пока еще откровенная игра, увлекательный флирт. Мериме в этих письмах явно рисуется, поучает, хочет выглядеть многоопытным и во всем разочаровавшимся. Уже тут появляется мотив старости (это в двадцать-то девять лет!), явно неискренний: «Я уже старик и к красоте почти бесчувствен» (п. 6). Он играет в одиночество, показывая, однако, что это игра. И вот это было двойной мистификацией: Мериме был действительно одинок и от этого страдал. Но еще точнее, думал, что одинок, и хотел от этого страдать. И с первых писем, естественно, разговор о любви. А иначе зачем же знакомиться? Но разговор не без осторожности, не без оговорок, видимо, чтобы не спугнуть добычу: «Я люблю Вас, как четырнадцатилетнюю племянницу, которая отдана мне на воспитание» (п. 4). Или даже так: «Влюбляться в Вас я не стану. Несколькими годами раньше такое могло бы еще случиться, ныне же я слишком стар и слишком был несчастлив. Влюбиться я бы уже не мог, ибо фантазии мои привели меня к немалым desenganos <разочарованиям> в любви» (п. 5). Как это знакомо и как это банально: твердить о старости, об избытке горького жизненного опыта, о невозможности любить! Не хватает только рассуждений о возможном взаимном разочаровании. Впрочем, есть и это – в 12-м письме.
Совершенно условны, наигранны в этих первых письмах самохарактеристики Мериме: «скромность – наивысшая моя добродетель» (п. 1); «слабость Ваша и склонность к ревности – достоинства у женщин, но недостатки у мужчин. Мне же присущи обе эти черты» (п. 3); «Вам известно, что я уродлив, чрезвычайно капризен, вечно рассеян, люблю подразнить и бываю совершенно несносен, когда дурно себя чувствую» (п. 6) и т. д.
А вот нотки искренние, хотя и они не знающему Мериме могут показаться наигранными: «для меня не было бы блага выше, нежели иметь человека, которому я мог бы поведать все мысли мои – и прошлые, и нынешние» (п. 3); «быть может, Вы приобретете истинного друга, а я, быть может, найду в Вас то, что давно уже ищу, – женщину, в которую я не влюблен, но к которой могу питать доверие» (п. 5); «я и не хочу влюбляться, я хочу лишь иметь друга-женщину» (п. 6); «я предлагаю Вам добрую дружбу, которая, как я надеюсь, станет когда-нибудь нужна нам обоим» (п. 12).