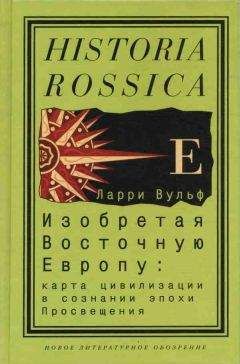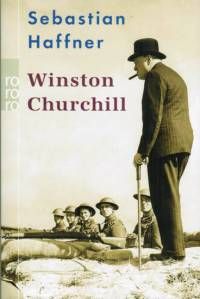Впрочем, беспокойство короля о конфиденциальности переписки было оправданным, тем более что эпистолярные взаимоотношения с мадам Жоффрен, подобно отношениям Екатерины и Вольтера, были задуманы им для пропаганды его просвещенного образа в Западной Европе. «На всех моих друзей произвело большое впечатление первое письмо, которое Ваше Величество написали мне после своего избрания, — писала мадам Жоффрен. — Я прочла им первую страницу; они все были очарованы, но письмо не покидало моих рук». Она, таким образом, обещала ему и широкую рекламу, и сохранение тайны; весь эпизод отражал сложное переплетение публичных и приватных устремлений, определявших форму и содержание переписки. Впрочем, мадам Жоффрен была не столь осторожна за год до того, когда первое письмо к ней Екатерины, к смущению обеих сторон, в конце концов попало в газеты. «Я опасалась писать вам во второй раз, — сухо заметила Екатерина, — дабы вы не подумали, что я стремлюсь прославиться своими письмами»[630].
Когда Станислав Август был избран на польский трон, устроившая это избрание Екатерина написала мадам Жоффрен, поздравляя ее так: с успехом «вашего сына». Екатерина набожно приписала его избрание Провидению («я не имею представления, как именно он стал королем») и даже предположила здесь влияние самой мадам Жоффрен: «Говорят, что ваш сын держит себя чудесно, и я этому очень рада; я предоставляю вашей материнской нежности поправлять его в случае нужды». Право наставлять саму себя она не собиралась предоставлять никому в Париже; более того, она намеревалась собственными силами исправлять поведение Станислава Августа, если оно начнет расходиться с целями ее польской политики. В конце 1764 года, когда мадам Жоффрен уже задумывалась о посещении Варшавы, Екатерина представляла ее визит в Санкт-Петербург и в письме в Париж рисовала их воображаемую встречу. Эта встреча не сопровождалась падениями ниц в персидском стиле:
Если вы войдете в мою комнату, я скажу вам: «Мадам, присаживайтесь, давайте поболтаем попросту». У вас будет кресло напротив моего, между нами будет столик[631].
В центре этой фантазии — встреча на равных Философии и Власти (даже если целью этой встречи была лишь болтовня); однако когда в 1773 году Санкт-Петербург посетил Дидро, между ним и Екатериной поставили маленький столик, дабы оградить императрицу от его фамильярности. Кресло, предложенное мадам Жоффрен, сродни креслам всех тех литераторов, которые в XVIII веке совершали, не вылезая из них, воображаемые путешествия в Восточную Европу.
Когда Станислав Август встретил мадам Жоффрен в Париже, он был еще молодым человеком; всю свою жизнь он сожалел, что не побывал в Риме и не встретил Вольтера. Екатерина никогда не бывала в Париже, как она сама с ироническим самоуничижением признавалась мадам Жоффрен; царица оставалась в России и притворялась изумленной, что занимает «людей, находящихся за девятьсот лиг отсюда». Петр бывал в Париже, но для Екатерины континентальная пропасть в 900 лиг, отделявшая ее от корреспондентов, была необходима, чтобы поддержать в Западной Европе ореол таинственности вокруг своей особы. Своих корреспондентов она приглашала к себе в гости, а мадам Жоффрен даже сообщила (тут Екатерина притворялась, что недооценивает свои познания во французском): «Если вы выучите русский, то много меня обяжете»[632]. Это, конечно, должно было прозвучать иронически, поскольку мадам Жоффрен вряд ли собиралась учить русский и даже по-французски писала не слишком хорошо — она была не в ладах с орфографией.
Письма самой мадам Жоффрен к Екатерине до нас не дошли, но она, несомненно, откликнулась на предложение посидеть в Санкт-Петербурге за столиком, поскольку следующей весной императрица вернулась к этой теме в своем письме: «Я ничуть не забыла, мадам, что предложила вам место напротив себя, отделенное от меня лишь столиком». Екатерина, однако, не спрашивала у нее советов и не интересовалась ее мнением о том, как ей управлять Россией. «У вас (chez vous) люди обладают ложными понятиями о России», — прямо заявила Екатерина, и это ее «vous» включало и «Вас, мадам, столь сведущую и столь просвещенную»[633]. Определяя пределы дозволенного эпистолярного вмешательства в свою политику, Екатерина была гораздо жестче, чем Станислав Август, и даже посещение Санкт-Петербурга сулило лишь возможность «поболтать». Именно так Дидро и описывал свои беседы с Екатериной в 1773 году: в его словах, помимо напускной скромности, сквозило еще и раздражение из-за неудавшегося диалога, из-за преграды в виде столика, из-за невозможности откровенной беседы наедине.
В марте 1765 года Станислав Август стал серьезней подумывать о приезде мадам Жоффрен: «Возможно ли, чтобы Вы задумались об осуществлении своего путешествия в Польшу?» Он все еще придерживался условного наклонения, но поездка эта казалась теперь достаточно реальной, чтобы породить в нем несколько двойственное отношение:
О, ma chère maman! Возможно ли? Возможно ли? Но вам хорошо известно, что мне бы хотелось уже сейчас заботиться лишь о том, чтобы были прекрасные дороги, прекрасные мосты, хороший ночлег, короче, все, что необходимо для того, чтобы вы не сказали: «Что за скверное (vilain) королевство у моего сына!»[634]
Таким образом, он заранее приписал ей все обычные жалобы западных европейцев, путешествовавших в XVIII веке по Восточной Европе; одновременно он брал на себя обязательство когда-нибудь стереть различия между двумя половинами европейского континента. Уверенность в высокомерно-снисходительном отношении мадам Жоффрен к его королевству определяла взаимные роли корреспондентов, обозначая и отношения между ними двумя, и отношения между Западной Европой и Европой Восточной. В ее ответном письме путешествие в Польшу впервые обсуждалось не в сослагательном наклонении, как фантазия, а как нечто решенное и назначенное на следующий год: «Я покину Париж 1 апреля и буду двигаться потихоньку, пока только земля будет выносить меня, к самому подножию Вашего трона, и там я умру в Ваших объятиях от радости, от удовольствия и от любви». Тем не менее она еще не настолько забылась в экстазе, чтобы не напомнить королю, что он обещал позаботиться о ее удобствах, когда она будет в Польше.
Мой дражайший сын, мне покажутся прекрасными все дороги, ведущие меня к этому счастливому моменту; я не буду судить о них до тех пор, пока не придет пора покидать вас, когда, я полагаю, они покажутся мне отвратительными. Я смеялась, читая, что, по вашему мнению, я буду восклицать: «Что за скверное королевство у моего сына!» Конечно, я сочту его недостойным вас[635].
Подобно Руссо, самонадеянно признавшему поляков «достойными» вольности, мадам Жоффрен готовилась признать их недостойными своего просвещенного монарха. Она смеялась над королем, предвидевшим ее восклицания, но лишь потому, что, по ее собственному признанию, его предположение абсолютно верно.
На самом деле именно эта «скверность», эта заметная на каждом мосту и на каждой дороге недостойность делала просвещенный абсолютизм столь убедительно уместным в Восточной Европе. Эпоха Просвещения выгородила себе в Западной Европе свое собственное королевство, и в ожидании встречи с Польшей мадам Жоффрен даже возложила на себя корону. «Да, да, подобно Царице Саве кой, я отправлюсь восхищаться Вашей мудростью», — объявила она. «Раз мой сын — царствует, я вполне могу уподобить себя царице». Так свершилось воображаемое коронование мадам Жоффрен, которая вечерами по средам дергала за невидимые нити, направляя беседы парижских философов. Случалось ли ей задуматься, что завоевание и власть могут выражаться в различных формах? Ее дочь, мадам де ла Ферте-Имбо, уверяла, что мадам Жоффрен обладала «душой Александра»[636].
«Словно спустясь с другой планеты»
В мае мадам Жоффрен писала королю, чтобы сообщить, что предстоящая поездка не кажется ей «невозможной», объявить, что она «не напугана и не обеспокоена женскими слабостями», и обсудить причины, по которым она считает путешествие в Польшу неотложным.
Я не смогу поддерживать многолетнее сообщение с вами, если мои представления о вашем духе, о его широте, о его природе и о его способностях не будут обновляться. … Наши отношения станут безжизненными, если все, что я вам говорю, не имеет больше никакого отношения ко всему тому, что вы чувствуете и что вас окружает[637].
Таким образом, само путешествие становилось необходимым, чтобы поддержать жизнеспособность их переписки. Письма были основной формой «сообщений» между ними, связывающей их через пролегшую между ними пропасть, но личное пребывание мадам Жоффрен в Польше на протяжении нескольких месяцев должно было оправдать многолетний обмен посланиями. Без этой поездки она постепенно потеряла бы истинное представление о своем корреспонденте и не знала бы, что его «окружает». Окружала его Польша; его двор и его придворные были для нее «множеством лиц, принадлежащих к совершенно иному виду». Письмо завершалось тройным призывом придерживаться высоких стандартов в их переписке: «Откровенность, откровенность, откровенность!»[638] Подобно Руссо, мадам Жоффрен осознавала, что воспринимает Польшу сквозь занавес, в прозрачности которого она уверена не была.