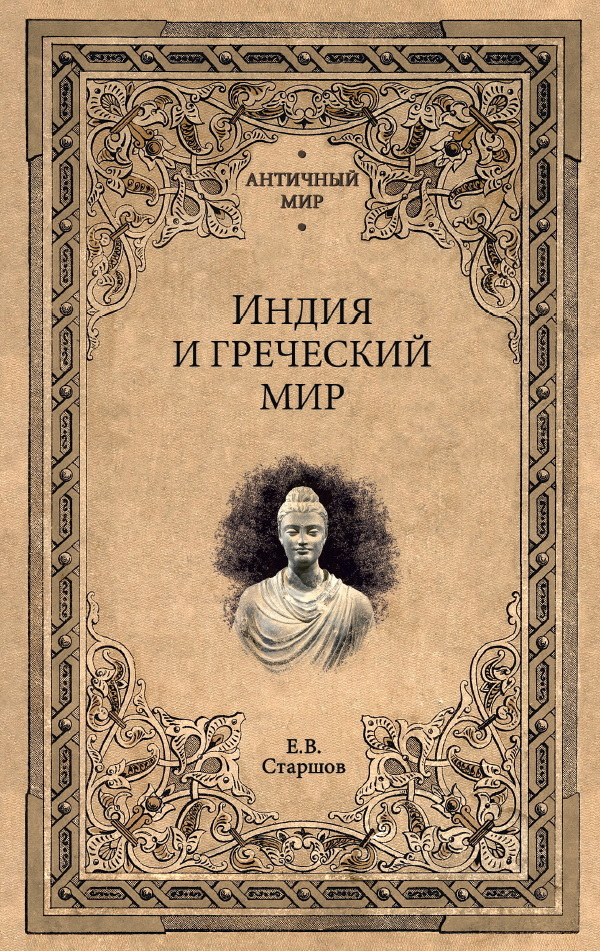предоставляет для внутренней мыслительной работы образы внешнего мира, то, по св. Иоанну, наглядность раскрывает мир, не видимый «духовному оку» человека. Как писали эти авторы: «Религиозная наглядность, по Иоанну Дамаскину, отталкиваясь от чувственного импульса, ведет к познанию мира божественных истин. На VII Вселенском соборе эти педагогические идеи Иоанна Дамаскина получили одобрение. Было признано важное дидактическое значение схоластической наглядности». «И. Дамаскин рассматривал чувственное восприятие как один из источников знания и гениально предугадал, что его взаимодействие с умопостигательным образом составляет единую основу познавательной деятельности. Поэтому в развитии способности человека воспринимать умозрительные, абстрактные явления он видел существенную задачу духовного становления личности». Идеи св. Иоанна о символической наглядности были впоследствии восприняты и переработаны плеядой русских религиозных философов и педагогов XIX – нач. ХХ вв. – таких, как, к примеру, старшие «славянофилы», К.Д. Ушинский, Н.И. Пирогов, В.С. Соловьев, С.Н. и Е.Н. Трубецкие, В.В. Розанов, С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев и о. Павел Флоренский.
И наконец, св. Иоанн написал «Сказание о жизни преподобных и богоносных отцов наших Варлаама и Иоасафа» – сочинение тоже весьма и весьма педагогическое. Надо признать, что некоторые церковные историки – например А.И. Сагарда, протоиерей Иоанн Мейендорф и священник Г.Флоровский – просто не упоминают его либо же сомневаются в его принадлежности перу Дамаскина; так, последний указывает, что это произведение «…несомненно не принадлежит Дамаскину… (и) составлено еще в середине VII века, в обители преп. Саввы, неким Иоанном». Однако в 19-й главе есть место в защиту иконопочитания, вполне согласное с творениями св. Иоанна: оно никак не могло появиться там в середине VII века, ибо тогда этого вопроса вообще не существовало! Разве что объяснить это позднейшей вставкой, но не будет ли это излишней натяжкой? Убедительнее принять его как произведение, все же принадлежащее перу св. Иоанна Дамаскина, тем более что арабская версия «Жития» прямо указывает: «Когда (Иоанн) вернулся (от иерусалимского патриарха) в лавру, то еще с большим усердием предался исполнению религиозных обрядов и подвижничеству и занялся сочинением своих речей, которые распространились до крайних пределов вселенной. К числу их надо отнести историю Варлаама и Иоасафа, в которой он высказал всю божественную и человеческую мудрость».
Итак, без преувеличения, это – одно из уникальных произведений византийской литературы, в котором на основе индийских легенд о Будде (мы еще в предисловии указали, что Иоасаф – это искаженное «Бодхисаттва») создано объемное – порядка 300 страниц современным гражданским шрифтом – христианское произведение, о котором святитель Феофан Затворник сказал так: «Лучшей книги для познания христианской веры и жизни в общем обзоре нет и едва ли может быть». Разумеется, при таких условиях нет и речи о каком-то элементарном плагиате; просто Иоанн берет впечатлившую его историю праведного индийского царевича, ставшего великим Учителем (а ранее мы показали, с какой заинтересованностью и уважением древнехристианские авторы относились к буддизму), и актуализирует ее, перенося в IV в. н. э., приспосабливая к христианству, наполняет своими богословскими идеями (в защиту иконопочитания, например) и прочим материалом, нужным, по его мнению, современникам, причем щедро черпает и из сокровищницы предшествовавших ему христианских мыслителей, и из буддийского наследия, не ограничиваясь лишь заимствованием общей канвы жития Будды: согласимся, последнее требует, по меньшей мере, приличного знания первоисточников, которыми Дамаскин, несомненно, располагал – например, «Самьюктаратнапитака-сутрой», из которой он взял притчу о человеке, упавшем в колодец (гл. 12; мы приведем оба варианта ниже), и, возможно – «Махапаринирвана-сутрой» с ее уподоблением четырех стихий, слагающих человеческое тело, четырем змеям – и отсюда сразу же следует иной вывод: значит, еще в его время существовала и была доступна – причем в далеком христианском монастыре в палестинской пустыне! – переведенная на греческий язык буддийская литература!!! При всем уважении к титаническому объему знаний Дамаскина мы не рискнем утверждать, что для своей цели написания истории Варлаама и Иоасафа он изучил палийский язык. Повторим еще и еще раз: это поразительнейший пример индо-греческого диалога, может быть, самый парадоксальный и неожиданный из всей нашей книги! Досконального сопоставления и анализа мы здесь, конечно, делать не будем, эта тема заслуживает отдельного глубокого труда – не то что это нам не по силам, просто сейчас задача иная – но самые интересные штрихи и места мы, несомненно, читателю представим.
Правитель Индии, царь Авенир, богат, славен, успешен в делах военных, но бездетен (у родителей Будды, Шуддходаны и Майи, тоже 20 лет не было детей), и местных христиан жестоко преследует. Несмотря на это, один из его сатрапов ушел в монахи и, «удалившись в пустынные места, он постами, бдением и изучением Священного Писания освободил свою душу от страстей, освятил ее отсутствием их» (гл. 2) – излишне обращать внимание читателя на абсолютно буддийскую формулировку освобождения от страстей, поэтому далее подобные ясные фрагменты мы излишними комментариями сопровождать не будем. Недоумевающему царю он дает наставление удалить, как врагов, гнев и страсти, и говорит об иллюзорности всего того, чем живет царь: «Действительным называется вечное, неизменное, недействительным – здешняя земная жизнь, роскошь и ложное счастье, к которым, увы, и твое, царь, сердце приковано» (там же). Бывшего сатрапа царь за дерзкие речи пощадил, лишь изгнав, но с еще большей яростью обрушился на христиан и монахов.
В это время у царя рождается долгожданный сын, которого называют Иоасафом, и многочисленные астрологи сулят ему все блага, и лишь один (как буддийский Асита) сулит ему иное, славнейшее царство, когда тот окрестится. И опечаленный царь, как и родитель Будды, обеспечивает отпрыску беспечальное тепличное существование: «Царь… поместил своего новорожденного сына в прекрасный дворец, нарочно выстроенный в городе. Когда сын вышел из детских лет, царь не велел допускать к нему никого; назначил для него воспитателями и служителями молодых и самых красивых людей, наказав им скрывать от мальчика все бедствия жизни: смерть, старость, болезнь, бедность и все другое, что могло бы нарушить его радостное настроение, и, напротив, раскрывать перед ним всякие удовольствия и наслаждения, чтобы его ум, увлекаясь ими, не мог рассуждать о будущем; [наказал,] чтобы он ни слова не слышал о жизни или учении и делах Христа, и последнее наказывал скрывать больше всего, принимая во внимание предсказание астролога. Если же случится, что кто-нибудь из прислужников заболеет, то он приказал, чтобы его тотчас удаляли оттуда, а вместо него ставили другого, здорового и хороших качеств, чтобы царевич не видел ничего, выходящего из ряда обыкновенного» (гл. 3).
Царевич получил прекрасное образование – «эфиопское, персидское и греческое» (гл. 5); заинтересовавшись, почему отец держит его фактически в заточении, он узнал от своего воспитателя, что тот остерегает