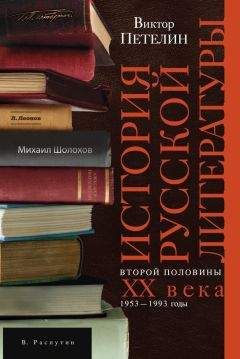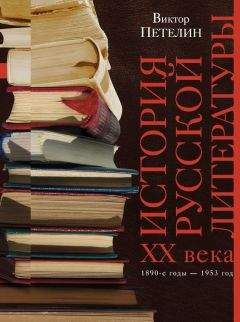Очевидно, что нужно, чтобы и читатель понял, в чём смысл новизны этого открытия. И дело не только в характеристике учёного-физика Штрума. В характеристиках других персонажей та же самая неопределённость. Вот Евгения Николаевна встретилась наконец со своим любимым полковником Новиковым, о котором давно мечтала, связала себя с ним навеки, полковник называет её «Евгения Николаевна Новикова», но Евгения Николаевна тут же говорит Новикову, что «если с Крымовым что-нибудь случится, его искалечат или посадят, я вернусь к нему. Имей это в виду». Евгения Николаевна любит Крымова, он такой талантливый, ведь о его статье Троцкий сказал: «Мраморно». И тут же через две-три странички повествования ей приходят мысли: «Раздражение против Крымова охватило её. Нет, нет, не принесёт она в жертву своё счастье… Жестокий, узкий, непоколебимо фанатичный. Она никогда не могла примириться с его равнодушием к чужим страданиям. Как это всё чуждо ей, её матери, отцу…» А ведь Евгения Николаевна не только что пришла к выводу, что Крымов такой, каким она его знала. Она часто вспоминала свои чувства к Новикову, ждала его приезда. Видно, и о душевных противоречиях надо отчётливее сказать. В. Гроссман неожиданно напишет: «Голова её была полна мыслей, она думала о будущем, о сегодняшнем дне, о прошедшем, она млела, радовалась, стыдилась, тревожилась, тосковала, ужасалась…» Здесь вроде бы автор показывал её многогранный мир, полноту её переживаний. А на самом деле всё это пустота, очерковый, приобретённый за годы войны журналистский опыт. Надо показать полноту переживаний, а не перечислять её полноту, которой мы не видим, не ощущаем. Вдумчивый критик Л. Лазарев в послесловии к роману написал: «Проза Гроссмана внешне суховата, ей чужды яркие краски, она чурается подробных описаний. Гроссман повествует, рассказывает, а не рисует, не изображает, но его повествование отличается высоким внутренним лирическим напряжением – в этом он следует за Чеховым, который с юных лет был его любимым писателем» (с. 670). А.П. Чехов, прочитав несколько рассказов А.М. Горького и признав в его сочинениях «настоящий, большой талант», написал ему: «Вы пластичны, т. е. когда изображаете вещь, то видите её и ощупываете руками. Это настоящее искусство». Порой, и чаще всего, этой «пластичности» в романе В. Гроссмана нет. Евгения Николаевна, как только узнала, что Крымов арестован, на Лубянке, тут же приехала в Москву. Она поступила так, как и предполагала, она готовит и передаёт посылку Крымову, который просто растерялся, когда следователь предъявил ему обвинение, вспомнив то, что было десять – двадцать лет тому назад. Следователь, а потом сменивший его капитан грубы, невоспитанны, необразованны. И автор не скрывает своих чувств по отношению к этим лицам: «Не надо быть ни идиотом, ни мерзавцем, чтобы подозревать в измене жалкое, грязное существо. И Крымов на месте следователя не стал бы доверять подобному существу. Он знал новый тип партийных работников, пришедший на смену партийцам, ликвидированным или отстранённым и оттеснённым в 1937 году. Это были люди иного склада. Они читали иные книги и по-иному читали их, – не читали, а «прорабатывали». Они ценили в жизни материальные блага, революционная жертвенность была им чужда либо не лежала в основе их характера. Они не знали иностранных языков, любили в себе своё русское нутро, но по-русски говорили неправильно, произносили: «прóцент», «пинжак», «Бéрлин», «выдающий деятель». Среди них были умные люди, но, казалось, «главная, трудовая сила их не в идее, не в разуме, а в деловых способностях и хитрости, в мещанской трезвости взглядов» (с. 584). И тут же автор приводит диалог следователя со своей женой: следователь говорил с ней о чисто материальных вещах, «словно рядом не человек сидел, а четвероногое двуногое» (с. 585).
Роман «Жизнь и судьба» Василий Гроссман посвятил своей матери Екатерине Савельевне Гроссман, попавшей в немецкий лагерь и расстрелянной фашистами; обо всех ужасах немецкой оккупации Анна Семёновна рассказывает в длинном письме к сыну Виктору Петровичу Штруму: «Витя, я уверена, моё письмо дойдет до тебя, хотя я за линией фронта и за колючей проволокой еврейского гетто…» Немцы ворвались в город, когда немцев никто не ждал, они кричали: «Juden kaputt!» Но не только немцы говорили эти слова, но и соседи заявили: «Вы вне закона». Анна Семёновна оказалась «в каморке за кухней», «там ни окна, ни печки». Её уволили из поликлиники, а заработанные деньги не выдали: «Новый заведующий мне сказал: «Пусть вам Сталин платит за то, что вы заработали при советской власти, напишите ему в Москву». Многие люди поразили её, перестали здороваться, отворачивались при встрече. Немцы приказали всем евреям с поклажей в 15 килограммов переселиться в район Старого города. Там её, Анну Семёновну, врача-окулиста, и расстреляли немцы, как и мать В. Гроссмана, Екатерину Савельевну.
В немецком лагере военнопленных оказалось много интересных людей. И вот один из них, Иконников-Морж, подошёл к Михаилу Сидоровичу Мостовскому, участнику II конгресса Коминтерна, человеку образованному, знающему несколько европейских языков, и рассказывает, что 15 сентября прошлого года он «видел казнь двадцати тысяч евреев – женщин, детей и стариков», в этот день он понял, что Бога нет, раз это произошло. Вот о чём рассказывает писатель: «Во время всеобщей коллективизации он увидел эшелоны, набитые семьями раскулаченных. Он видел, как падали в снег измождённые люди и уже не вставали. Он видел «закрытые», вымершие деревни с заколоченными окнами и дверями. Он видел арестованную крестьянку, оборванную женщину с жилистой шеей, с трудовыми, тёмными руками, на которую с ужасом смотрели конвоиры: она съела, обезумев от голода, своих двоих детей» (с. 22). В то, что говорил Иконников-Морж, не верится, краски сгущены до того, что всё это кажется путаным воображением больного Иконникова.
Михаил Шолохов писал Сталину в 30-х годах об ужасных перегибах во время коллективизации, он видел в станицах и хуторах трупы лошадей, павших от бескормицы в январе 1931 года: «Горько, т. Сталин! Сердце кровью обливается, когда видишь всё это своими глазами, когда ходишь по колхозным конюшням мимо лежащих лошадей; когда говоришь с колхозником и не видишь глаз его, опущенных в землю». Шолохов писал Сталину о том, как уполномоченные отбирали коров, единственных кормилиц в деревне; о том, как колхозники во время сева расхищали огромное количества зерна; о том, как уполномоченные выкидывали колхозников из собственных домов на мороз, эти колхозники жгли костёр и грелись у костра: «Детей заворачивали в лохмотья и клали на оттаявшую от огня землю. Сплошной детский крик стоял над проулками. Да разве же можно так издеваться над людьми?» Умирали от холода и голода, Шолохов перечисляет способы, к которым прибегали уполномоченные, чтобы «выбить» из колхозников хлеб» (Шолохов М.А. Письма. С. 150—152 и др.). Но то, что увидел Иконников-Морж, просто поразительно, такого чудовищного поступка представить себе просто невозможно. Были газетные сообщения о подобном во время голода в 1921—1922 годах, но, если говорить о времени коллективизации, пожалуй, такой информации не было.
В романе много говорят и думают об арестах 1937 года, о судебных процессах, о расстрелах и виновнике всех этих трагедий – Иосифе Сталине. В произведении действует не только Сталин. Весь роман построен как эпопея, выведены немцы, евреи и русские, Сталин и Гитлер, Чуйков и Паулюс, показаны их характеры и деяния, есть учёные, академики, доктора наук, есть генералы, полковники и другие офицеры, показаны их действия и размышления, есть верные жены и любовницы, они думают, говорят, размышляют обо всём, что их окружает, есть бои за Сталинград, есть научные дискуссии, но время действия в романе – микроскопическое, всего лишь несколько месяцев 1942/43 года. Здесь нет эпического развития событий, нет крупных личностей, вобравших в себя все тяготы и радости своего времени, как в «Тихом Доне», в «Хождении по мукам» и в «Жизни Клима Самгина». И многие эпизоды романа воспринимаются как неправдивые и бестактные. Вся поездка Людмилы Николаевны в госпиталь к сыну Анатолию кажется неправдоподобной, финал этой поездки можно было предвидеть, особенно возмутителен эпизод со слепым, которому не удаётся попасть в трамвай. «При посадке в трамвай молодые женщины с молчаливой старательностью отпихивали старых и слабых, – писал В. Гроссман. – Слепой в красноармейской шапке, видимо, недавно выпущенный из госпиталя, не умея ещё одиноко нести свою слепоту, переминался суетливыми шашками, дробно постукивая палочкой перед собой. Он по-детски жадно ухватился за рукав немолодой женщины. Она отдёрнула руку, шагнула, звеня по булыжнику подкованными сапогами, и он, продолжая цепляться за её рукав, торопливо объяснял:
– Помогите произвести посадку, я из госпиталя.
Женщина ругнулась, пихнула слепого, он потерял равновесие, сел на мостовую… Слепой бил палкой по воздуху, и в этих круговых взмахах выражалась его ненависть к безжалостному, зрячему миру» (с. 106). В этой ненависти слепого была выражена и авторская ненависть к собравшимся на остановке, к тому, что происходит на глазах Людмилы Николаевны. Трудно себе представить подобную сцену в России, в сердобольном Саратове…