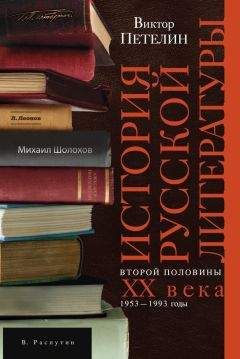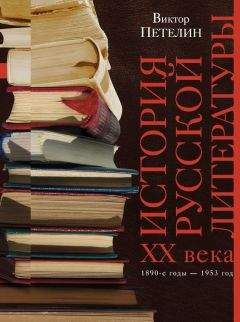– Помогите произвести посадку, я из госпиталя.
Женщина ругнулась, пихнула слепого, он потерял равновесие, сел на мостовую… Слепой бил палкой по воздуху, и в этих круговых взмахах выражалась его ненависть к безжалостному, зрячему миру» (с. 106). В этой ненависти слепого была выражена и авторская ненависть к собравшимся на остановке, к тому, что происходит на глазах Людмилы Николаевны. Трудно себе представить подобную сцену в России, в сердобольном Саратове…
Трудно не согласиться с В. Гроссманом, когда он пишет о правде: «Правда одна. Нет двух правд. Трудно жить без правды либо с осколочками, с частицей правды, с обрубленной, подстриженной правдой. Часть правды – это не правда. В эту чудную тихую ночь пусть в душе будет вся правда – без утайки. Зачтём людям в эту ночь их добро, их великие трудодни…» (с. 496). Но на какое-то мгновение В. Гроссман «забывает» великие дела сталинградских полководцев, «когда одни лишь человеческие владели ими», и тут же напишет об «античеловеческих»: «Нужно ли продолжать рассказ о Сталинградских генералах после того, как завершилась оборона? Нужно ли рассказывать о жалких страстях, охвативших некоторых руководителей сталинградской обороны? О том, как беспрерывно пили и беспрерывно ругались по поводу неразделённой славы. О том, как пьяный Чуйков бросился на Родимцева и хотел задушить его потому лишь, что на митинге в честь сталинградской победы Никита Хрущёв обнял и расцеловал Родимцева и не поглядел на рядом стоявшего Чуйкова… О том, как утром после этого празднества Чуйков и его соратники едва все не утонули мертвецки пьяными в волжских полыньях и были вытащены бойцами из воды. Нужно ли рассказывать о матерщине, упрёках, подозрениях, зависти?» (с. 496—497). Нужно, если ты художник! И виноват в этом трагическом конфликте не пьяный Чуйков и не пьяный Родимцев, они совершили великую Победу, а ничтожно малый человек – Н.С. Хрущёв… Но здесь чистая журналистика, не раскрывшая человеческих характеров после великой Победы в величайшем сражении, когда за какие-то мгновения, пусть и длившиеся несколько дней, полководец испытал всё, что может испытать человек за всю свою жизнь. И при чём здесь рассуждения о божественной правде, к которой так стремится истинный художник? Этой правды автору не удалось добиться, хотя есть удачные, талантливо написанные эпизоды.
В 1946 году И. Эренбург и В. Гроссман написали «Чёрную книгу» о репрессиях фашистов в лагерях против евреев, подсчитали даже, что число уничтоженных евреев в газовых камерах было шесть миллионов. Ту книгу не напечатали. И вот в романе «Жизнь и судьба» В. Гроссман возвращается к этой теме и описывает чудовищный процесс. Главы о страданиях евреев вызывают боль. В главе 32 автор исследует тему антисемитизма, высказывает много справедливого, спорного и неверного. Немецкий солдат Розе из зондеркоманды, обслуживавшей газовую камеру, устроился неплохо: хорошее общежитие, прекрасная столовая, где солдат кормили по ресторанной системе, они почти втрое больше получали денег и пр. «Ничего привлекательного не было в том, чтобы наблюдать, как корчатся в камере евреи», но он внимательно наблюдал, как работали дантисты, собирая золотые коронки при уборке камеры: два килограмма золота он уже передал жене, «ничтожную долю драгметалла, поступавшего в управление лагеря». Начальник зондеркоманды Лисс, разговорившись с оберштурмбаннфюрером Эйхманом, спросил его:
«– Скажите, можно примерно иметь представление, о каком количестве евреев идёт речь?..
Эйхман ответил.
Лисс, поражённый, спросил:
– Миллионов?
Эйхман пожал плечами». А через несколько минут Эйхман сказал:
«– Представляете, через два года мы вновь сядем в этой камере за уютный столик и скажем: «За двадцать месяцев мы решили вопрос, который человечество не решило за двадцать веков!» (с. 363—364).
Начальник зондеркоманды Лисс – палач, за свою деятельность в лагере он уничтожил в газовых камерах 590 тысяч евреев. Эту цифру, как и число 6 миллионов евреев, убитых в газовых камерах, историки и исследователи подвергают сомнению (см.: Исследование холокоста. Глобальное видение. Материалы международной Тегеранской конференции 11—12 декабря 2006 года. М., 2007).
Сомнительна и фраза, что в сентябре 1942 года имперское правительство приняло ряд бесчеловечных законов: «Руководство партии и лично Адольф Гитлер вынесли решение о полном уничтожении еврейской нации» (с. 146). Исследователи приводят многочисленные доказательства, что Гитлер не произносил этой фразы. Всё было гораздо сложнее, противоречивее, глубже.
И ещё одно естественное замечание о романе В. Гроссмана… То, что происходит со Штрумом и его теоретическим открытием, с академиком Шишаковым, его окружением, с письмом «Всегда с народом» в Институте физики, с учёным советом в институте и пр., скорее всего, могло происходить после 1946—1948 годов, когда возникла и нанесла непоправимый вред борьба с космополитами чуть ли не во всех областях науки и искусства, а не в 1942—1943 годах. Звонок Сталина Штруму действительно мог быть в это время, когда СССР задумал атомную бомбу и привлёк многих специалистов.
Жаль, роман «Жизнь и судьба», получается, «арестовали» военные люди. Огорчительно, что опытный критик Л. Лазарев назвал эту вещь «выдающимся произведением, отличающимся мощью авторской мысли, силой правды и таланта». Это произведение многогранное, охватившее очень много проблем и судеб, но слишком часто в него врывается чистая публицистика и очерковая журналистика. Хорошо было бы опубликовать роман, когда он был написан, без вторжения идеологических и государственных влияний, без вторжения редакторов, особенно таких, как А. Твардовский и К. Симонов…
В романе В. Гроссмана сделана попытка философски осмыслить удачи Красной армии на фронте:
«Московская победа в основном послужила изменению отношения к немцам. Мистическое отношение к немецкой армии кончилось в декабре 1941 года.
Сталинград, сталинградское наступление способствовало новому самосознанию армии и населения. Советские, русские люди по-новому стали понимать сами себя, по-новому стали относиться к людям разных национальностей. История России стала восприниматься как история русской славы, а не как история страданий и унижений русских рабочих и крестьян. Национальное из элемента формы перешло в содержание, стало новой основой миропонимания… Основой же нового уклада являлся его государственно-национальный характер… И именно в пору сталинградского перелома, в пору, когда пламя Сталинграда было единственным сигналом свободы в царстве тьмы, открыто начался этот процесс переосмысления.
Логика развития привела к тому, что народная волна, достигнув своего высшего пафоса во время сталинградской обороны, именно в этот, сталинградский период дала возможность Сталину открыто декларировать идеологию государственного национализма» (с. 499—500).
Кое-что спорно и даже неверно в этих рассуждениях В. Гроссмана, но ясно одно – отойдя от космополитической интернационалистической идеологии, русское правительство встало на рельсы русского государственного национализма. В русской литературе тоже многое изменилось. Если в 20—30-х годах преимущественно господствовали космополиты и интернационалисты, остро критиковавшие Есенина, Маяковского, Горького, Пришвина, Алексея Толстого, Клюева, Клычкова, Заболоцкого, Сергеева-Ценского и др., то в послевоенное время ориентиры изменились. С упоением писала Аделина Адалис в 1934 году о власти, которой писатели-интернационалисты добились после 1917 года: «Мы чувствовали себя сильными, ловкими, красивыми. Был ли это так называемый мелкобуржуазный индивидуализм, актёрская жизнь воображения, «интеллектуальное пиршество» фармацевтов и маклеров? Нет, не был. Наши мечты сбылись. Мы действительно стали «управителями», «победителями», «владельцами» шестой части земли» (А. Адалис).
Станислав Куняев в статье «Лейтенанты и маркитанты», подробно анализируя творчество Д. Самойлова и вспоминая ИФЛИ и ифлийцев, детей «пламенных интернационалистов», широко цитирует книгу воспоминаний поэта, в которой отчетливо выразились мечты и надежды его поколения: «Чего мы хотели? Хотели стать следующим поколением советской поэзии, очередным отрядом политической поэзии, призванным сменить неудавшееся, на наш взгляд, предыдущее поколение». Д. Самойлов полагает, что Твардовский, Исаковский, Симонов, Смеляков, Павел Васильев – «неудачники», Мартынова, Прокофьева, Тихонова, Заболоцкого вообще не вспоминает. «Все они для нас были одним миром мазаны. Их мы собирались вытолкнуть из литературы, – вспоминал Д. Самойлов. – Мы мечтали о поэзии политической, злободневной, но не приспособленческой…» Об этом поколении поэтов Б. Слуцкий убийственно сказал: «Готовились в пророки товарищи мои». Но С. Куняев возражает против этого вывода: Б. Слуцкий «вольно или невольно задним числом согрешил против исторической истины: в большинстве «товарищи» готовились не к тому, чтобы пророчествовать, а чтобы управлять и властвовать» (Куняев С. Лейтенанты и маркитанты // Наш современник. 2007. № 9. С. 122—123 и др.).