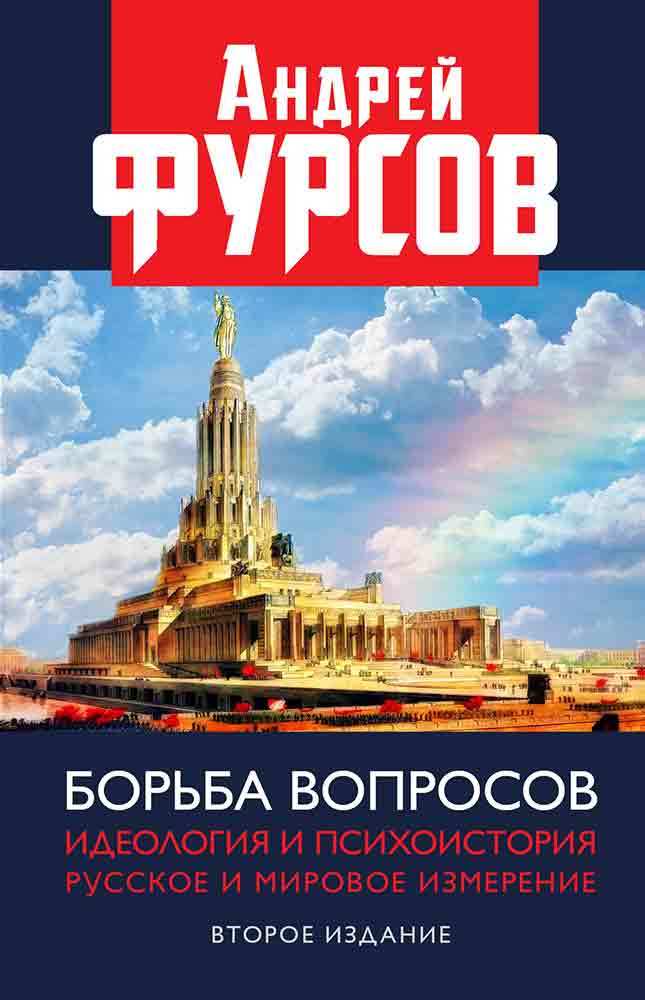рабочих. Второй системообразующий класс капиталистического общества получил хотя и частичное, но политико-юридическое признание. «Капиталистическая эстафета», начав свой бег экономическим кризисом в Англии 1848 г., сделала полный оборот вокруг земного шара, достигнув далекой Японии, и развернув даже эту закрытую страну к Западу («
избушка-избушка, повернись ко мне…»), вернулась в Европу, в Англию. Мир стал единым и капиталистическим. Тут-то и подоспел Маркс со своим «Капиталом». Капиталистический мир? Мир капитала? Извольте – «Das Kapital». Но мир этого не заметил, по крайней мере сначала – несмотря на все старания и ухищрения «Фреда» Энгельса, писавшего под разными именами разные, диаметрально противоположные по оценке, рецензии на «Капитал». Цель – привлечь внимание, вызвать дискуссии, пробудить интерес. Не вышло. Но это уже другая тема. Для нас здесь главное, что 1867 г. замыкает некую эпоху, начавшуюся в 1848 г. и превратившую мир в капиталистический. Справедливости ради необходимо отметить, что существуют и другие датировки окончания эпохи превращения Европы в «мир капитализма», не совпадающие с 1867 г. – «длинных пятидесятых». Эти даты имеет смысл привести не только с точки зрения интеллектуальной частности и научной пунктуальности, но и потому, что они косвенно проливают дополнительный свет на эпоху Маркса, на ее излет, закат.
3. Возможность других дат конца эпохи – шлейф Истории?
Британский юрист А.В. Дайси считал концом эпохи, начавшейся в 1848 г., год 1870. Он писал, что в 1870 г. в Англии закончилась эпоха индивидуализма и началась эпоха коллективизма [21]. Ясно, что коллективизм связывается и с выходом на политическую арену рабочего класса, и с первыми шагами «деиндивидуализации», монополизации капитала.
Более сильной и значимой, чем 1870 г. (но не 1867 г.) в качестве даты, замыкающей эпоху, представляется 1871 г. Этот год знаменателен сразу в нескольких отношениях. Начать с того, что это год Парижской коммуны – первого самостоятельного (без буржуазии, антибуржуазного) выступления рабочих и низов в Европе и во Франции в частности. Во Франции, правда, такое выступление пролетариев стало первым и последним, после 1871 г. Париж навсегда выпадает из списков пролетарской или традиционной «старолевой» революционности (но не революционности вообще – был ведь и 1968 г., впрочем, студенческое движение было революционным в той же степени, что и реакционным, и у нас еще будет возможность поговорить об этом на страницах «Русского исторического журнала»). И хотя французы в 1875 г. провозгласили 14 июля национальным праздником, а «Марсельезу» – национальным гимном [22], это не меняет ни ситуацию в целом, ни ее оценку. Разумеется, этот акт французских властей следует воспринимать прежде всего в событийно-конъюнктурном контексте борьбы республиканцев и роялистов в первой половине 1870-х годов, как символический удар по роялистам. Но был и другой контекст. Факт, что вскоре после кровавых событий Парижской коммуны, когда счет трупов шел на десятки тысяч, буржуазия не побоялась принять в качестве национального гимн со словами:
Allons, allons,
Que sangue impure
Epreuve nos sillons!
очень красноречив. Помимо прочего, он показывает и убеждает, что эпоха революций со всей очевидностью ушла в прошлое настолько, что буржуазия и ее государство могли присвоить, апроприировать ее символы, сделать их своими. Но это также значит, что к середине 1870-х годов во Франции, да и в других странах Европы господствующий строй, Система в значительной степени интегрировали в себя тот слой, который готов был выходить на баррикады, «дисциплинировали» его (в фукоистском смысле слова, проведя то, что Ф. Карон, правда, для другой эпохи, назвал «l'encadrement de masses» [23].).
1871 год принес французской столице еще одно знаковое и эпохальное «выпадение». Как заметил А. Хорн, после двух взятий города – Бисмарком и Тьером – Париж утратил роль и качество одного из главных (если не главного со времен Людовика XIV) центров державной имперской мощи Европы [24]. События 1789 г. и особенно 1848 г. дополнили имперско-державный Париж революционными чертами и обликом – до такой степени, что революция и империя переплелись тесным и странным образом, причем не только в национально-ограниченном французском плане, но и общеевропейском.
Так, в 1848 г. «на следующий день после 24 февраля ни один государственный деятель не сомневался в том, что Европа будет потрясена в близком будущем отголоском событий, театром которых только что стал Париж» [25]. Так оно и вышло – революция 1848 г., перешагнув французские границы, стала общеевропейской, а Э. Хобсбаум, хотя и с некоторым эмоциональным перебором, назвал ее потенциально первой глобальной революцией.
В действительности 1789 год не привел к общеевропейскому взрыву (хотя его и опасались, но, в отличие от 1848 г., мало кто ждал его всерьез). Французскую революцию в другие страны принес Наполеон, войны которого, помимо прочего, стали экспортным вариантом французской революции, таким образом загасив ее разрушительный потенциал в самой Франции и использовав его для строительства империи. Спустя десятилетия по похожему пути пойдет Бисмарк, который вступит в союз с германской революцией, чтобы усмирить ее [26] и, «откачав» ее энергию, направить против самой революции и на строительство империи, рейха, а также во вне (против той же Франции – исторический ответ «михелей» Людовику XIV и Наполеону).
Бисмарк пошел по иному, чем Наполеон пути – не по имперско-революционному, а реакционно-революционному, по пути удушения революции в объятиях (после того, как в 1848 г. провалилась его попытка организовать реакционный переворот, т. е. достичь своих цепей чисто реакционным путем), г. Манн в своей «Истории Германии после 1789 г.» противопоставляет Бисмарка и Маркса: первый стремился к подавлению революции, второй – к ее радикализации. У обоих, пишет Г. Манн, ничего не вышло, они были людьми будущего [27], в 1848 г. их время еще не пришло. И это естественно, 1848 год замыкал старую эпоху; для новой «чистые» решения «или – или» не годились, и Бисмарк – практический политик, прагматик, хорошо понял это и поставил революцию на службу нации и государству (империи). Другое дело, что ему пришлось выполнить кое-что из того, что должна была сделать, но не сделала революция, но это уже относится к проблеме соотношения средств и целей.
Бисмарк своих политических целей достиг. А вот Маркс, продолживший прямолинейный революционно-интернациональный путь и после 1848 г., проиграл, не поняв роли национализма в новой капиталистической эпохе, не связал капитализм и экономические процессы 1850-1860-х годов с национализмом и государством, продолжая судить о национализме с узкоклассовых позиций. Или, по крайней мере, судить на уровне теории. Что касается эмпирических, конкретных на политическую злобу дня, то здесь Маркс оказывается шире своей теории. Например, как заметил У. Коннор, в «Гражданской войне во Франции» Маркс значительное внимание уделил вопросу о роли национального сознания французов [28].
Нужно