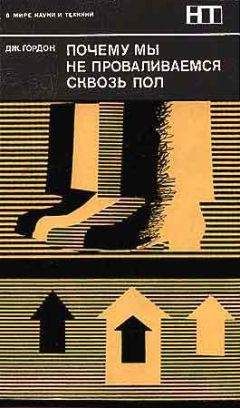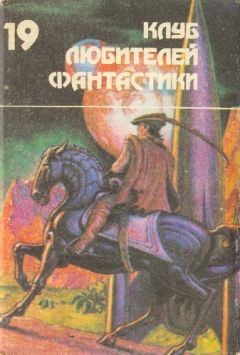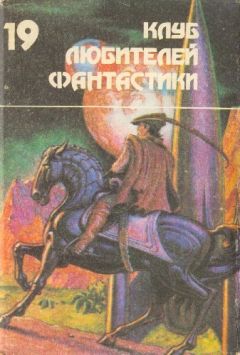Ленинграде говорят, что писал ее сам Ревуненков. Во всей нашей литературе автору удалось найти лишь один положительный отзыв на опусы Ревуненкова – Галкина. Кроме того, делается глухая ссылка на Нарочницкого. Читать все это было грустно. Но ведь другого и быть не могло. Хорошо еще, что Ревуненкову никто прямо не высказал главную мысль, что он вообще не может относиться к исследователям ВФР (Великой французской революции. –
А.Г.)» [1038].
Феномен автора, взбудоражившего сообщество историков революции своеобычной трактовкой классиков, заботил Сытина не просто в личностном, а в историографическом плане. Как всегда, Сытин приступает к теме тщательнейшим образом и, вопреки моим предостережениям о бесполезности занятия, начинает перечитывать сочинения Ревуненкова одно за одним, в хронологическом порядке. Он удручен: «Вызывает острую досаду прежде всего низкая культура исследования» [1039]. И тем не менее спустя десятилетие вновь возвращается к начатому: «Начал и сейчас буду форсировать большую тему – “Методологические проблемы изучения Якобинской диктатуры”. Для начала буду писать обзор о том, как используют все, что говорил Ленин о революции и якобинцах, наши историки – начиная с Ревуненкова» [1040].
На новом форуме, состоявшемся в разгар Перестройки в том же Институте [1041], Сытин еще более решительно выступил против «деякобинизации» и в целом против «смены вех», когда бывшие «герои» представали «злодеями», и наоборот, когда в присущей советской историографии идеализации якобинцев вскрывали формирование культа личности и порой историков революции XVIII веке обвиняли в том, что своими работами они прокладывали дорогу сталинскому террору. В этих условиях Сытин занял вполне определенную позицию. Он защищал историческое значение Французской революции и якобинской диктатуры.
Тем не менее С.Л. признавал возможность ставшей тогда очень популярной морально-гуманистической темы. «Наш анализ событий прошлого, – подчеркивал Сытин, – должен сочетать как классовый, так и общечеловеческий подходы». С такой точки зрения война – «прежде всего величайшее бедствие в жизни людей». То же революция. «Мы, – самокритично признавал Сытин, – приучили самих себя и наших читателей, слушателей к тому, что революции – это… воплощение прогресса… Но ведь революция – это и самая острая форма классовой борьбы, когда во многих случаях льется человеческая кровь» [1042].
Сергей Львович мог бы, разумеется, добавить дежурные фразы о «локомотивах истории», «повивальной бабке» и особенно о «празднике угнетенных». Но и без того был ясен отход от классического марксизма в его советской разновидности, сводившейся именно к классовому подходу как универсальному объяснению исторического процесса в целом и оценке конкретных событий в частности, в том числе оправданию всех эксцессов. Сытин не отрицал целесообразность революционного террора, когда он является ответом на террор контрреволюционный, но определенно высказывался против идеализации: «Дико воспевать, любоваться или хотя бы бесстрастно описывать даже революционный террор» [1043].
Вместе с тем Сытин был против «двух правд»: «Истина может быть единством противоречий, присущих той или иной системе, но взаимоисключающих истин… быть не может» [1044]. Конкретно это было сказано в адрес тех, кто выступал с поношением Французской революции и ее якобинских деятелей, а также, как подметил Сытин, косвенно и Просвещения. Однако он придавал и эпистемологическое значение своему тезису: «Плюрализм мнений нужен науке как воздух». Но это «не коллекционирование мнений, а их соревнование на пути к истине». «Хотя бы относительной» [1045], – смягчал свою позицию Сытин.
В отличие от него Адо, выступления которого на этом форуме тоже были самокритичными, трактовал плюрализм именно как сосуществование различных мнений: «Время и наша собственная научная и общественная эволюция и работа постепенно приведут нас к обдуманным и взвешенным решениям, которые вряд ли будут у всех одними и теми же… Вовсе не обязательно, чтобы существовала в нашей историографии совершенно единая концепция Французской революции… Возможно, что кристаллизуются разные концепции, которые будут существовать, соревнуясь» [1046].
В общем-то оба ведущих советских историка говорили об одном, но акцент был различным. Сытин надеялся на торжество единого мнения и ревизионизм в виде «деякобинизации» не принимал. Адо допускал «кристаллизацию» различий, хотя, возможно, из-за присущей ему осторожности, не расшифровал детали, касающиеся отношения к «ревизионизму» Франсуа Фюре и его единомышленников во французской историографии.
Вместе с тем Сытин сам в это время проявлял себя «ревизионистом», но, разумеется, совершенно на иной манер. Размышляя об эволюции советской историографии, он склонялся к «возвращению к корням», к работам первого поколения советских историков Французской революции. К такому пересмотру его подвигла выявившаяся в ходе Перестройки возможность освободиться от навязанных в 30-х годах историкам революции сталинских идеологических установок: «Сейчас пришла пора посмотреть на ВФР с точки зрения выявления штампов и примитивов, которые оказались внесены в изучение этого сюжета в 30-х гг. и позже. В этом плане очень нужны работы наших историков 20-х годов» [1047].
Подобно мне, Сытин критически воспринял идею переиздания к 200-летию Французской революции компендиума 1941 г., изобиловавшего подобными «штампами и примитивами». Между тем в Секторе новой истории стран Западной Европы ИВИ идея была вначале поддержана и даже, с оговорками, Адо [1048]. Спустя несколько лет Анатолий Васильевич откровенно назовет издание 1941 г. примером «упрощенного, прямолинейного применения» классового подхода, характерного для «нашего исторического мышления того времени» [1049].
Сытин поддержал меня и в вопросах методологического характера. Рубеж 80–90-х годов был для меня сложным временем. Продолжая заниматься Французской революцией, я оставался в значительной мере на позициях традиционного для советской историографии классово-формационного подхода, между тем как, обратившись к крестьяноведческой проблематике, должен был от него отказаться. Впрочем, уже по отношению к борьбе между жирондистами и якобинцами и установлению якобинской диктатуры я чувствовал познавательную ограниченность этого подхода.
Уже в условиях Перестройки я смог высказать свои затруднения, сформулировав тезис о «разрешающих возможностях» метода, иными словами, его эпистемологических пределах. Сергей Львович меня поддержал. Поддержал он меня и в отношении крестьяноведения, научно-теоретический статус которого как междисциплинарного направления исследований я пытался сформулировать. Вопреки тому, что бдительные оппоненты сразу определили немарксистский характер моих разработок. В 1989 г. я со всеми понятными предосторожностями (максимум материала – минимум формулировок) довел их до монографии, а затем представил к докторской защите. В августе 1991 г. под лязг гусениц танков разослал автореферат.
«Рад Вашему автореферату, – откликнулся Сергей Львович. – Какую глыбу Вы подняли. Мало кто решается в наши дни брать такие сюжеты. Предпочитают бродить “на изящных задворках науки”» [1050]. Оценка Сытина меня порадовала. Правда следует сделать оговорку. Одобрение моих крестьяноведческих исследований не означало со стороны Сытина поддержку моей «девиации» от марксистских канонов в отношении крестьянства. На это справедливо указала И.Л. Зубова: «Вы про свою монографию пишете, что разрабатывали материал по принципу больше фактуры, минимум концептуальных