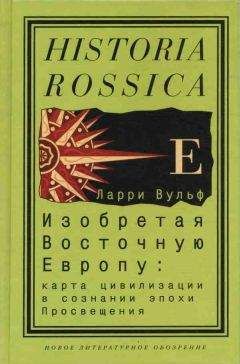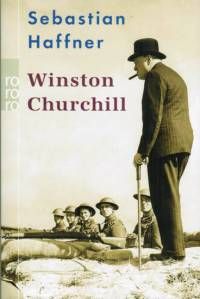Ваше Величество, этот Бурдильон воображает, что Польша была бы намного богаче, более населенной и счастливой, если бы ее крепостные были освобождены, если бы их тела и души обрели свободу, если бы остатки готическо-славянско-римско-сарматского образа правления были однажды упразднены государем, который бы принял звание не первенствующего сына церкви, но первенствующего сына Разума[684].
Совершенная смехотворность «готическо-славянско-римско-сарматского образа правления» делала реформы тем более уместными в Польше, а эпистолярная форма, письмо в Восточную Европу, обозначала вектор просвещенного влияния. В 1768 году Вольтер изложил свой призыв к польской нации в «Обращении к католическим конфедератам в Каменце, в Польше», приписанном прусскому офицеру по имени Кайзерлинг. «Отважные поляки, — обращался он к ним в тех же выражениях, что и Руссо несколько лет спустя, — желали бы вы сейчас быть рабами и вассалами теологического Рима?» Поляки осмелились жаловаться, что Екатерина ввела русские войска в Польшу, и еще спрашивают, есть ли у нее на это право: «Я отвечаю вам, что это то право, по которому сосед тащит воду в горящий дом соседа». Русскую армию послали «установить в Польше терпимость». Вольтер напоминал полякам, что Екатерина приобрела библиотеку Дидро, и заключал презрительно: «Друзья мои, научитесь читать для начала, и тогда и вам кто-нибудь купит библиотеки»[685]. Как и более дружелюбное обращение Руссо к отважным полякам, слова Вольтера предназначались его читателям в Западной Европе, которые, таким образом, могли воочию наблюдать, как философия несет полякам истину. Иллюзорность его мнимой аудитории была тем более очевидна в «Проповеди попа Николая Любомирского, говоренной в церкви Свято-Терпимской, в деревне литвянской», написанной Вольтером в 1771 году. То, что проповедь эта предназначалась парижской публике, а не литовским крестьянам, очевидно уже потому, что она была ответом на манифест Барской конфедерации, опубликованный в Париже в предыдущем году. «Я имею честь послать Вашему Императорскому Величеству перевод литовской проповеди, — писал Вольтер Екатерине. — Это скромный ответ на грубые и смехотворные вымыслы, которые польские конфедераты напечатали в Париже». Вольтер, таким образом, был полностью вовлечен в екатерининский поход на Польшу, и настолько, что в 1769 году Станислав Август подумывал об открытии дипломатического фронта в Ферне и отправил агента, чтобы, заручившись посредничеством Вольтера, добиться от Екатерины мирных переговоров[686]. Вольтер отказался ему помочь — то ли он был слишком увлечен екатерининскими войнами и завоеваниями, то ли как философ и сам хорошо понимал, что не может влиять на действия Екатерины в Польше, а может лишь оправдывать и воспевать их.
То, что вольтеровская проповедь 1771 года была обращена к западноевропейской аудитории, видно и из пародийных славянских имен «Любомирский» и «Свято-Терпимский» (Chariteski и Saint Toleranski), превращавших польский кризис в восточноевропейскую комедию. Вольтер обращался с польской ситуацией как с литературным развлечением, а как раз в то же время молодой Марат писал «Приключения юного графа Потовского», роман в письмах, где использовал современную ему Польшу и войну Барской конфедерации как фон для романтической истории. Всеобщность интеллектуального увлечения Польшей с 1770 по 1772 год была поразительной: поощряемые Вильегорским, Мабли и Руссо писали свои трактаты, Вольтер в Ферне обращался к полякам с сатирическими памфлетами, а Марат, работавший ветеринаром в Англии, в Ньюкасле, сочинял там свой роман. Если в «Польских письмах» Марат предлагал взглянуть на Западную Европу глазами поляка, то в «Приключениях» он живописал ощущения поляков, оказавшихся в гуще польского политического кризиса, который мешал воссоединиться двум юным влюбленным. Он использовал польские и псевдопольские фамилии — Потовский, Пулавский, Огиский, Собеский, — носители которых рассуждали о польских делах, причем одни восторженно поддерживали Барскую конфедерацию, а другие ее презрительно осуждали, что отражало различие мнений по этому вопросу и в Западной Европе, и в самой Польше.
Главный герой, которого ужасали зверства гражданской войны и иностранных вторжений, в конце концов осудил конфедератов, называя их «кучкой варваров». Однако окончательное суждение о состоянии дел в собственной стране сложилось у него после беседы с заезжим французом. Марат скромно называет поляка «moi» («я»), а француза — «lui» («он»):
Moi: Ты кажешься мне человеком знающим; мне будет приятно услышать, что ты думаешь о состоянии дел в несчастной Польше.
Lui: Вы пропали, и, быть может, пропали совершенно; но что за несчастья ни обрушились бы на вас, вы их, несомненно, заслужили.
Moi: Объяснись, пожалуйста, ибо я не понимаю тебя.
Lui: В состоянии анархии, в котором вы живете, как одни из вас могут не стать жертвами других или добычей ваших соседей? Ваш образ правления есть наихудший из всех существующих[687].
Этот вымышленный диалог между поляком и французом с его суровым приговором приводился в вымышленном же письме от одного поляка к другому; само оно, в свою очередь, было частью романа в письмах, написанного о Польше французом, проживающим в Англии. Таким образом, само расположение литературного материала в конечном итоге утверждало главенство Западной Европы. Если польские сочинения Марата оставались неопубликованными до 1847 года, то Жан-Батист Луве дю Кувре написал и издал в 1780-х годах «Любовные похождения шевалье де Фоблаза», где польский сюжет отсылал читателей в прошлое, ко временам Конфедерации. Французская публика настолько заинтересовалась романтической историей Лозвинского и Лодойской, что де Кувре переработал ее в драматическую комедию, «Лодойская и татары»; комедия эта, а также основанная на ней опера Керубини были поставлены в 1791 году в революционном Париже[688].
Вольтер использовал историю Станислава Августа и барских конфедератов в своей трагедии «Законы Миноса»; хотя она и была написана примерно во время первого раздела, действие в ней происходило на древнем Крите. Просвещенный царь жаловался: «Фанатизм и мятежи / Вечно беспокоят мою несчастную страну»[689]. Эта пьеса так и не увидела сцены; еще меньше внимания привлекло сатирическое стихотворение о Польше «Война конфедератов», которое Фридрих Великий написал в 1771 году, чтобы развлечь Вольтера. Руссо, Марат и Фридрих писали почти одновременно, но если Руссо симпатизировал полякам, а Марат колебался, то Фридрих был полон злобного презрения. В качестве наиболее уместной в данном случае музы у него выступает богиня глупости:
Avec plaisir elle vit la Pologne
Le même encore qu’à la création
Brute, stupide et sans instruction?
Staroste, juif, serf, palatine ivrogne,
Tous végétaux qui vivaient sans vergogne.
Она с удовольствием увидела Польшу,
Не изменившуюся с начала времен,
Грубую, глупую и необразованную,
Староста, еврей, крепостной, пьяный воевода,
Вот овощи, которые не знают стыда[690].
Фридрих не только рифмовал Pologne (Польша) с ivrogne (пьяный) и vergogne (стыд), но и составил традиционную восточноевропейскую комедию из «множества слабоумных, чье имя оканчивается на — ский». Однако и эта комичность, и презрение, капающие с ядовитого пера, обнажали подспудную связь между поэзией и властью, типичную для всех произведений, посвященных польскому кризису, как он виделся Западной Европе. Фридрих как раз задумывал свой план расчленения Польши, и Вольтер оценил сходство между этим стихотворением и разделом 1772 года: «Ваши деяния почти сравнялись с Вашим стихотворением о конфедератах. Приятно уничтожить народ и сложить о нем песню». Вольтер видел взаимосвязь между двумя талантами и льстил Фридриху: «Никто никогда не сочинял стихов и не завоевывал королевств с такой легкостью». Более того, Вольтер и сам раздел считал плодом гениального воображения, подобным поэме: «Предполагается, что именно вы, Ваше Величество, придумали расчленить Польшу, и я этому верю; в этом есть нечто гениальное». Что до самого Фридриха, то он начал злополучный 1772 год письмом Вольтеру, где приветствовал поляков как «последний народ в Европе»[691]. Именно эта иерархия народов, которых, несмотря на все унижения и вторжения, все же считали европейцами, определяла для Фридриха его поэтическое и политическое восприятие Восточной Европы.
«Экономические советы»
Такое ранжирование различных народов указывало одновременно и на возможность развития, и сторонники одного из важнейших экономических течений в XVIII веке, физиократы, проявляли особенный интерес к Польше именно в годы ее политического кризиса. Уже в наше время, после 1989 года, агонизирующая польская экономика стала лабораторным образцом для проверки действенности рыночного капитализма, а иностранные экономисты слетались в Варшаву со своими лекциями и рецептами. Точно так же, за два века до того, физиократы с их протокапиталистическими взглядами ухватились за возможность использовать польский кризис, чтобы экспортировать свои экономические теории и использовать эту страну для постановки научных экспериментов. Основателем этой доктрины был Франсуа Кенэ, написавший в 1758 году «Tableau économique», где доказывался приоритет сельского хозяйства перед коммерцией, преимущества свободной торговли, основанной на принципе laissez faire, и полезность единого налога на землю. Рассматривая Восточную Европу в свете этих идей, физиократы надеялись распространить влияние своих экономических доктрин на Польшу и Россию. Именно своей написанной в физиократическом духе диссертации под названием «Естественный и основной порядок благоустроенных обществ» Лемерсье был обязан приглашением в Санкт-Петербург в 1767 году. В том же году Мирабо-старший, отец известного революционера, придал физиократическому течению организационную форму, устраивая у себя дома ужины по вторникам; к концу года он уже мог похваляться в письме Руссо, что его салон отправил Лемерсье в Россию «с несколькими помощниками, которых мы ему придали, чтобы насадить там экономическое законодательство»[692]. Их ожидали разочарования, но, очевидно, высокомерное поведение Лемерсье объясняется не только особенностями его характера; он был представителем целого научного направления, которое видело Восточную Европу в таком же свете.