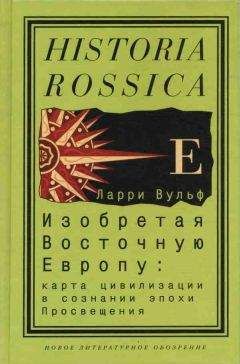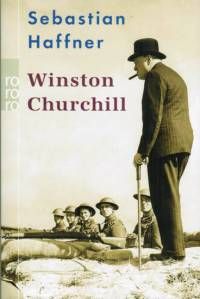Планы преобразования Польши в физиократическом духе не остановились немедленно вслед за разделом. Новый русский посол в Варшаве после 1772 года, Отго Магнус Штакельберг, стал самым могущественным человеком в Польше, помыкая Станиславом Августом и унижая его; король сравнивал посла с римскими проконсулами. Кроме всего прочего, Штакельберг был убежденным физиократом — именно он в 1767 году первым порекомендовал Екатерине злополучного Лемерсье. В 1773 году он сообщал в Санкт-Петербург о своих планах преобразований в Польше, включавших введение свободной торговли, гарантий частной собственности и «учреждение единого поземельного налога, следуя системе экономистов»[698]. Таким образом, всемогущий екатерининский посол относился к идеям физиократов с энтузиазмом, Станислав Август — с симпатией, а главой вновь созданной Комиссии народного просвещения, возможно первого Министерства просвещения в Европе, был не кто иной, как сам Массальский, виленский епископ-физиократ. Реформа образования была, конечно, главнейшей заповедью «Соображений» Руссо; тем не менее Массальский не очень его жаловал и пригласил Бадё вернуться в Польшу, чтобы принять участие в работе этой комиссии. Однако тот, наведя кое-какие справки через мадам Жоффрен, решил, что ему уже хватило польских приключений, и отказался. Место досталось другому физиократу, Пьеру-Самюэлю Дюпону де Немюру, вместе с Бадё выпускавшему «Ephémérides». Кроме того, польский князь Адам Чарторыйский предложил Дюпону стать частным наставником своих детей[699].
У Дюпона были некоторые обязательства при баденском дворе, но маркграф Карл-Фридрих, симпатизировавший физиократам, написал Мирабо, что Дюпон, конечно, должен отправиться в Польшу, не упуская возможности «принести безграничное благо целой нации». Сам Дюпон воспринимал роль физиократической доктрины с не меньшей самонадеянностью: это видно из его прощального обращения к салону Мирабо весной 1774 года. Он объявлял своим коллегам-физиократам, что их «ученики были избраны» восстановить Польшу, а значит, там «предполагают следовать вашим советам, желая быть так или иначе причастными к этой академии». Безличная потребность в совете, безличное желание причастности приписывалось самой Польше; именно эта ссылка на безличные желания и стремления позволяла философам Просвещения утверждать собственную значимость. «Моему воображению видится, — разглагольствовал Дюпон, — высокая честь создания нации посредством народного образования». Эту же самую формулу «создания нации» французские интеллектуалы, начиная с фонтенелевского панегирика, использовали и применительно к петровским реформам в России; теперь им самим предстояла такая же созидательная деятельность в Польше. «Мои друзья, мои дорогие друзья, уроните несколько слез, когда я уеду!» — восклицал Дюпон, обращаясь к сентиментальным физиократам и обещая поддерживать «честь вашего ученика», а если надо — даже погибнуть в Польше. Кому-то придется отвезти домой его прах — «тело, изношенное после двенадцатилетнего служения». Когда он уезжал, его представления о том, что ожидает его в этой стране, стали еще более драматичными:
Я отправляюсь в Польшу, дабы плавать в пустоте, почти как Сатана в описании Мильтона, изнемогая в этом пространстве в усилиях сколь обширных, столь и бесплодных. Я отправляюсь в край интриг, зависти, тайных сговоров, тиранов, рабов, гордости, непостоянства, слабости и сумасшествия[700].
Польша представала самой преисподней, населенной всевозможнейшими демонами, то есть поляками, которые сами и были главным препятствием его титаническим усилиям «создать нацию».
«Знаменитый и долгожданный г-н Дюпон прибыл наконец с женой и детьми», — цинично сообщал в декабре из Варшавы один бывший иезуит. Формально Дюпон занимал в комиссии должность секретаря для иностранной переписки; для начала он отменил планы своего патрона Массальского по созданию приходских школ. Самоуверенность его объяснялась тем, что он прибыл в Восточную Европу из Европы Западной, твердо веря в ее интеллектуальное преимущество. Это очевидно, если познакомиться, скажем, с его планами создания польской академии. На его взгляд, она должна поддерживать переводы на польский язык, справляясь предварительно у западных ученых, какие книги этого достойны. Академия наук в Париже будет рекомендовать классические работы по математике; Королевское общество в Лондоне будет оценивать сочинения по химии, электричеству и физике; Экономическое общество в Берне займется аграрными науками. Наконец, физиократический кружок Мирабо в Париже будет отвечать за мораль, социальную экономию, политику, гражданские законы и «прочее». Англия, Швейцария и Франция входили, таким образом, в созвездие высшей, западноевропейской, цивилизации; Польша должна была светиться их отраженным светом, а Париж физиократов был самой яркой звездой. Затем Дюпон составил учебный план для польских студентов, наивысшей точкой которого было изучение работ Кенэ и Мирабо. Циничный бывший иезуит приписал этот план «воспаленному сознанию» и заметил, что «ни один преподаватель здесь не взялся ему следовать»[701].
В Польше, как и в других местах, подобные планы было легче составить, чем осуществить, и к октябрю Дюпон был глубоко разочарован, сообщая в Баден: «Нас обманули». Затем он предположил, что Бадё преувеличил ожидавшие его в Польше возможности, «дабы отправить меня на должность, которой он не желал для себя». Польские школы, метафорически объяснял Дюпон, это «воздушные замки». Обвинял он, конечно, во всем поляков, выражая свои претензии в терминах цивилизации и дикости:
Жители Польши все еще крепостные рабы и дикари; и что за усилия потребуются, чтобы вывести их из крепостного состояния, которое неизбежно и ведет к дикости! Я составил несколько записок по этой проблеме, которым аплодируют сегодня, о которых забудут завтра, с которыми будут справляться и которые, быть может, приведут в исполнение через сотню лет[702].
Отсталость измерялась столетиями, и век — вполне преодолимое препятствие по сравнению с пятью столетиями, которые, по мнению Вольтера, понадобятся полякам, чтобы научиться изготовлять севрский фарфор.
Год 1774-й был не только годом больших надежд для физиократов в Польше, но и годом больших возможностей в самой Франции. С восшествием на престол молодого Людовика XVI правительство возглавил убежденный физиократ Анн-Робер Тюрго. Его указ, объявлявший о разрешении свободной торговли зерном, был опубликован с предисловием, написанным самим Дюпоном. Уже готовясь к отъезду, он получил предложение занять должность губернатора на французском острове Маврикий, в Индийском океане, к востоку от Мадагаскара, но предпочел отправиться в Польшу. Однако стоило ему добраться до Варшавы, как Людовик XVI приказал вернуться во Францию, чтобы работать в правительстве Тюрго. Дюпон послушался, причем довольно охотно. Его «изношенное тело» возвращалось домой, пробыв в Польше не двенадцать лет, как ожидалось, а лишь три месяца. Проезжая через Германию, он написал с дороги уже престарелому, восьмидесятилетнему Кенэ, доживавшему последний год своей жизни, изображая польский эксперимент как «пытку», а ожидаемое возвращение домой — как «радость». Особенно «утомительно» было обучать четырнадцатилетнего Чарторыйского-сына — хотя в будущем маленький князь станет одним из самых влиятельных польских политических деятелей XIX века. Помимо всего прочего, Дюпон выражал в письме к Кенэ свое удовольствие, что возвращается «в первую страну Европы», то есть во Францию: «Ибо, дорогой Учитель, я убедился собственными глазами, что даже в несчастиях, наполняющих нас желчью, французы есть и были первая нация нашего континента»[703]. Наблюдения, сделанные Дюпоном в Польше, убедили его в превосходстве Франции, подобно тому как возвратившаяся из Варшавы мадам Жоффрен говорила, что счастлива быть француженкой. Если Фридрих презирал поляков, «последний народ в Европе», то Дюпон был убежден в первенстве французов; таким образом, отношение западноевропейских философов к Польше легло в основу иерархии народов, различных моделей развития и шкалы относительной отсталости.
В 1776 году Адам Смит опубликовал в Лондоне свое «Богатство народов». Он восхищался физиократами и вслед за ними выступал за свободу торговли; однако его экономическая теория сделала учение физиократов, с его упором на сельское хозяйство, безнадежно устаревшим. В «Богатстве народов» он мельком бросает замечание, из которого видно, как он представляет себе экономическую иерархию европейских народов:
Польша, где по-прежнему сохраняется феодальная система, сегодня такая же нищая, какой она была до открытия Америки. Цена зерна, впрочем, выросла в денежном выражении; истинная же стоимость драгоценных металлов в Польше упала, так же как и в остальных странах Европы[704].