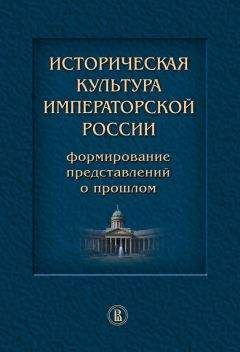самоопределения молодежи иммигрантского происхождения бывший «министр по делам культов»: «Они лучше говорят по-французски, чем их родители, они вскормлены французской культурой; однако они хорошо видят во взглядах других, что их не принимают здесь полностью». Историк Бенжамен Стора уточняет: «Они ощущают со стороны общества то же отношение, которое было у Франции к колонизованным» [952]. Такая позиция большинства отталкивает меньшинства и побуждает их замыкаться; в свою очередь, самоизоляция меньшинств («коммунитаризм») усиливает негативное отношение к ним со стороны большинства.
Возникающая «цепная реакция» достаточно хорошо осознается и властями, и исследователями. Проделав обстоятельное социологическое обследование различных когорт французского населения иммигрантского происхождения, Сильвен Бруар и Венсан Тиберж пришли к выводу, что «коммунитаризм» затронул лишь его незначительную часть, а в отношении огромного большинства остается плодом воображения. Однако этот фантом порождает «чувство остракизма» среди иммигрантского населения, и это чувство, наряду с расовой дискриминацией и экономическими трудностями, может иметь «контрпродуктивные последствия». «Чрезмерное акцентирование внимания на коммунитаризме при рассмотрении социальных и групповых явлений рискует привести к его принятию социальными акторами». Иначе говоря, воображаемая опасность коммунитаризма может стать реальной, если общество поддастся этому фантому [953].
Вероятно, самым ярким проявлением противоречий в утверждении культуры многообразия стали развернувшиеся в последние десятилетия «бои за историю», точнее – за историческую память («война воспоминаний»). Инициаторами выступили меньшинства, и эти выступления носили «протестный, требующий и обвиняющий» характер. «Это нормально, – пишет Пьер Нора, – поскольку идентичность меньшинств есть по определению идентичность жертв; история тех, кто не имел права на Историю» [954]. Однако востребование меньшинствами этого права вызывало болезненную реакцию со стороны тех представителей большинства, кто не хотел «ворошить прошлое» или отказываться от усвоенного образа «французского величия». Открылось множество болевых точек, самой чувствительной из которых остается оценка колониального прошлого, и прежде всего войны в Алжире.
Особая ответственность ложится на государство, которому предстоит стать верховным арбитром, чтобы предотвратить разгорающуюся «войну памяти». К государству взывают все стороны. Самые радикальные требования, пишет Нора, связаны с вопросом о признании своей идентичности, с желанием добиться ее «записи в великую книгу национальной истории». А для этого «требуется символ, закон, Конституция, официальное слово государства». Ответом стали «мемориальные законы». Их подлинное значение – в их «символическом характере, в торжественности и единодушии заявления законодательного органа», типа «Республика признает геноцид армян» (29 января 2001 г.).
Это законы не столько юридического, сколько этического свойства, подчеркивает Нора. Первый из них – закон Гейсо 1990 г., принятый по требованию еврейской общины, вводил уголовное наказание за высказывания расистского, антисемитского, ксенофобского содержания и прежде всего за отрицание еврейского геноцида. Между тем уже существовал правовой инструментарий для осуждения отрицателей, однако на волне провишистских настроений, попыток реабилитации режима Петена в исторической памяти (см. гл. 3) потребовалось моральное осуждение на самом высоком уровне Республики, что было сделано этим законом [955].
В 1993 г., в 51-ю годовщину первых массовых арестов евреев, 16 июля было объявлено «национальным днем памяти жертв расистских и антисемитских преследований». Ответственность за содействие нацистам возлагалась при этом на «так называемое правительство Французского государства (1940–1944)». В трактовке закона 2000 г. день 16 июля стал «национальным днем памяти жертв расистских и антисемитских преступлений Французского государства и уважения праведников [956] Франции». Новая редакция сделалась возможной после речи Жака Ширака перед мемориалом на велодроме Вель д’Ив (ставшем пересыльным лагерем первой массовой депортации).
«Эти черные дни, – говорил президент, – навсегда омрачили нашу историю, оскорбили наше прошлое и наши традиции. Преступное безумие оккупантов было поддержано французами, французским государством… Франция, родина Просвещения и прав человека, убежище гонимых, совершила непоправимое. Нарушив свое слово, она выдала тех, кто находился под ее опекой [957], их палачам».
Кроме законодательного удовлетворения требований еврейской и армянской общин, к «мемориальным» относят законы о рабстве (закон Тобира, по фамилии депутата, что символично, из Гвианы) от 21 мая 2001 г. и о колонизации (февраль 2005 г.). Более удачным, с точки зрения восприятия в обществе, оказался первый из них, квалифицировавший «трансатлантическую торговлю неграми», как и рабство, которому с ХV в. подвергались «африканцы, индейцы, мальгаши и индийцы», «преступлением против человечества». Была установлена дата ежегодного празднования отмены рабства (10 мая). Прессе вменялось «защищать память о рабах и честь их потомков». «Соответствующее место, которое они заслуживают», предлагалось уделить рабству и работорговле в школьных программах и программах научных исследований [958]. Среди положительных откликов впечатляют проекты сооружения мемориалов в городах, обогатившихся в прошлом работорговлей, Нанте и Бордо, и что особенно символично – на набережных, откуда отправлялись корабли работорговцев.
Между тем судьба и этого закона была не простой. Он был принят под давлением мощного движения негритянских общин, организовавших в 150-ю годовщину отмены рабства 23 мая 1998 г. в Париже демонстрацию, в которой участвовали десятки тысяч человек. Созданный затем Комитет движения 23 мая потребовал, в частности, открытия архивов сахарозаводчиков и признания «роли рабов в экономическом развитии Франции». Участники движения доказывали, что именно выходцы из Африки являются самыми потерпевшими из меньшинств, оспаривая эту привилегию у еврейской общины. При этом некоторые активисты ставили под сомнение сам факт геноцида, клеймя соперников как воплощение «американо-сионистской оси зла» [959]. Так развернулась «конкуренция» среди самих меньшинств за привилегию считаться «жертвами» [960].
И все же наиболее сложной видится судьба закона о колонизации. «Колониальный вопрос», и в данном случае это вопрос о «колониальной памяти», возник с выдвижения претензий к властям со стороны тех, кто считает себя жертвами исторической несправедливости. Между тем, пишут авторы введения к коллективной монографии «Колониальный разрыв», Франция упорно пыталась «отделить колониальную историю от национальной» и вплоть до 1990-х годов оставалась единственной европейской страной, сознательно дистанцировавшейся от «колониальной ностальгии». Яркий пример – уникальный многотомный труд «Места памяти», в котором из 133 статей лишь одна касалась колониального вопроса (о Колониальной выставке 1931 г.). Отвечая на критику, руководитель проекта, академик Нора, заявил: «Траур по колониям – вот единственное – место памяти» в колониальной истории Франции [961].
В 1990-х годах забвению был положен конец, притом, воскрешая историческую память, власти постарались удовлетворить все стороны. 18 октября 1999 г. законодательно был утвержден термин «алжирская война» (вместо «операции в Северной Африке»). В октябре 2001 г. в ознаменование 40-летия демонстрации алжирцев 17 октября 1961 г., жестоко подавленной парижской полицией, была открыта мемориальная доска на мосту Сен-Мишель, где пролилась кровь демонстрантов. Одновременно 25 декабря того же года было решено установить национальный день харки (арабов, сражавшихся на стороне Франции), а декретом 26 сентября 2003 г. учреждался национальный день памяти «погибших за Францию» в Алжире, Марокко и Тунисе.
Главным явилось