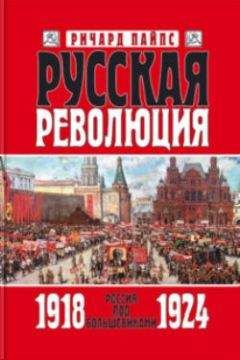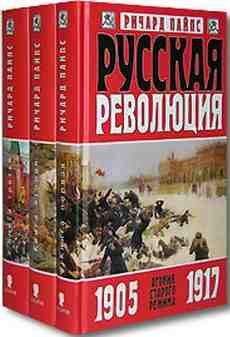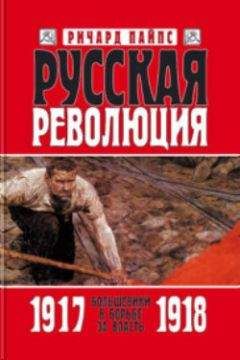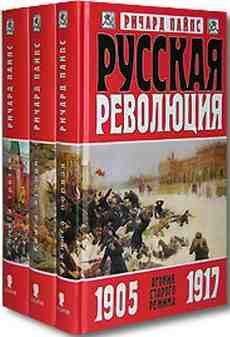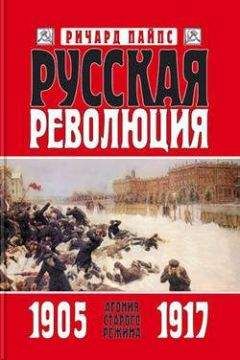Невдохновляющая деятельность наркомпроса не могла привлечь к нему истинные таланты, превратившись в уютное прибежище жен и родственников советских начальников9.
Но человеческие качества Луначарского были не единственной и не главной причиной не свойственного режиму благодушия по отношению к интеллектуальной элите нации. Невозможно было закрывать глаза на тот факт, что буквально вся интеллигенция, и профессиональная и «творческая», отрицали большевистскую диктатуру. Интеллигенция первой в царской России освободила себя от всеобщего долга служения государству10. Какие бы грехи ни лежали на совести интеллигенции, но она искренне верила в свободу и, насладившись целым столетием независимости, не желала идти в услужение к государству. Большинство русских писателей, художников и ученых, каждый в отдельности и все вместе, отвернулись от новых правителей, отказываясь работать на них, находя убежище либо в эмиграции, либо в частной жизни. Молодой Владимир Набоков в статье, появившейся в эмигрантской газете по поводу 10-й годовщины революции, выразил мнение многих: «Я презираю не человека, не рабочего Сидорова, честного члена какой-нибудь Ком-пом-пом, а ту уродливую, тупую идею, которая превращает русских простаков в коммунистических простофиль, которая превращает людей в муравьев, новую разновидность formica marxi, var. lenini… Я презираю коммунистическую веру как идею низкого равенства, как скучную страницу в праздничной истории человечества, как отрицание земных и неземных красот, как нечто, глупо посягающее на мое свободное я, как поощрительницу невежества, тупости и самодовольства»11.
О том, насколько непривлекателен был новый режим для «творческой интеллигенции», можно судить по тому факту, что, когда в ноябре 1917 года, через несколько дней после переворота, большевистский ЦИК пригласил петроградских писателей и художников на встречу, пришло только семь или восемь человек. Та же участь постигла Луначарского в декабре 1917 года, когда из 150 приглашенных — самых выдающихся представителей интеллигенции — явилось 5 человек, среди них двое симпатизирующих — поэт Владимир Маяковский и театральный режиссер Всеволод Мейерхольд, да еще мятущийся Александр Блок12. Луначарскому пришлось буквально умолять студентов и преподавателей прекратить бойкот новой власти13. Максим Горький был единственным всенародно известным писателем, сотрудничавшим с большевиками, но и он подвергал их уничтожающей критике, которую Ленин предпочитал не замечать, вынужденный дорожить поддержкой писателя. Книга Троцкого «Литература и революция», написанная в 1924 году, обливает презрением и ненавистью русскую интеллигенцию за то, что она отвергает большевистский режим. Взбешенный их нежеланием влиться в русло нового искусства, Троцкий высмеивает «ретроградное тупоумие профессиональной интеллигенции» и объявляет, что Октябрьская революция обнажила их «невозвратный провал»14. Со временем многие интеллигенты примирились с властью, подчас лишь ради того, чтобы избежать голодной смерти, но и их можно считать в лучшем случае лишь подневольными сотрудниками власти. Те представители «творческой интеллигенции», кого властям удалось привлечь на свою сторону, были по большей части эпигонами и поденщиками, не способными на самобытное творчество, и точно так же, как посредственности в нацистской Германии, они устремились в правящую партию, ища ее высокого покровительства. Политика сравнительной терпимости в сфере культуры помогла по крайней мере нейтрализовать остальных. Ленин, относившийся к русской интеллигенции с не меньшим презрением, чем Николай II, полагал, что может купить ее за небольшую долю свободы и некоторые материальные блага.
Писателям и художникам, пошедшим на сотрудничество с большевиками, пока был жив Ленин, не приходилось жаловаться на условия работы. Однако они не создали ничего существенного, не сумев вписаться в жесткие рамки, установленные хозяевами, которым человек не казался чем-то единственным и неповторимым, обладающим собственной волей и совестью, ведь они видели в нем лишь представителя своего класса, то есть определенный тип, чье поведение и поступки предопределяются исключительно экономическими интересами этого класса. Большевики ненавидели индивидуальность в любых ее проявлениях: известный теоретик советского искусства 20-х годов Алексей Гастев предсказывал постепенное исчезновение индивидуального мышления и замену его «механизированным коллективизмом»15. При таком подходе писателю оставалось лишь штамповать типовые образы, среди которых не было места образу «положительного» буржуя или «отрицательного» рабочего. В результате советская драматургия и проза наводнились множеством двухмерных, черно-белых персонажей, объяснявшихся клишированными фразами и действующих как марионетки. На короткое время им позволялось отступить от стереотипа, чтобы испытать сомнения или совершить ошибки, но в конце концов все должно было стать на свои заранее определенные места и закончиться благополучно, «как в кино». Поскольку художественные произведения лишались тем самым всякого элемента неожиданности и увлекательности, а творчество — вдохновения, некоторые советские писатели искали способ самовыражения в экспериментах с формой. В первое десятилетие советской власти все традиционные каноны литературы, драматургии и изобразительного искусства подверглись радикальному переосмыслению: экспериментирование с формой в стремлении скрыть убогость содержания превратилось в самоцель.
* * *
Движение «Пролетарской культуры» было основано в первые годы XX века Луначарским и Александром Богдановым (Малиновским). Ленин назначил Луначарского, воспитанника Цюрихского университета, комиссаром просвещения, несмотря на недовольство Пролеткультом и опасения, какие вызывали политические амбиции Богданова. Луначарский говорил, что своим назначением он обязан тому обстоятельству, что был «интеллигентом среди большевиков и большевиком среди интеллигентов»16. При всех своих расхождениях с Лениным во взглядах на сущность новой культуры, он разделял убеждение руководителя партии в том, что в Советской России «школа должна стать источником агитации и пропаганды» и оружием против «всевозможных предрассудков», как религиозных, так и политических17. Луначарский, кроме того, был сторонником введения цензуры, которую Ленин поручил его заботам18.
В годы становления большевизма Богданов был одним из самых близких и преданных соратников Ленина. В 1905 году Ленин сделал его одним из трех членов тайного центра, руководившего подпольными действиями большевиков и распоряжавшегося партийной кассой. Уже тогда Богданов проявлял острый интерес к проблемам социологии культуры19. Его теорию, подчас достаточно туманную и путаную, происходившую отчасти из учений социолога Эмиля Дюркгейма и неокантианцев, в нескольких словах можно представить так: культура есть одна из сторон труда, а поскольку труд есть коллективное усилие в вечной борьбе человека с природой, создание культуры есть также процесс коллективный: «Творчество, всякое — техническое, социально-экономическое, политическое, бытовое, научное, художественное — представляет разновидность труда и точно так же слагается из организующих (или дезорганизующих) человеческих усилий… Нет и не может быть строгой границы между творчеством и просто трудом; не только имеются все переходные ступени, но часто нельзя даже уверенно сказать, которое из двух обозначений более применимо.
Человеческий труд, всегда опираясь на коллективный опыт и пользуясь коллективно выработанными средствами, в этом смысле всегда коллективен, как бы ни были в частных случаях узкоиндивидуальны его цели и его внешняя, непосредственная форма (т. е. и тогда, когда это труд одного лица, и только для себя). Таково же и творчество.
Творчество — высший, наиболее сложный вид труда. Поэтому его методы исходят из методов труда»20.
В примитивном, бесклассовом обществе есть только одна, общая для всех культура, и высшим достижением ее является язык. Но и поэзия, музыка, танец тоже помогают в общем труде и на войне.
На определенной стадии человеческого развития, согласно Богданову, наступает разделение труда и его производного — общественных классов. Исчезновение социальной однородности ведет к раздвоению культуры, по мере того как имущественная элита монополизирует мысль и навязывает свои идеи и ценности инертным массам. В результате образуется разрыв между интеллектуальным и физическим трудом, который владельцы средств производства используют для того, чтобы держать рабочие классы в порабощении. В обществах, основанных на классовых различиях, искусство и литература становятся крайне индивидуализированными, а творческие личности руководствуются лишь своим «вдохновением». Но индивидуализм феодальной и капиталистической культуры более кажущийся, чем реальный. Применяя концепцию Эмиля Дюркгейма о коллективном разуме, Богданов утверждал, что корни даже крайне индивидуального творчества лежат в ценностях, которые писатели и художники восприняли от своего класса21. Отсюда следует, что, когда пролетариат придет к власти, возникнет новая культура, отражающая его опыт, сложившийся на заводах и фабриках, где люди работают в спаянном коллективе, и потому их культура тоже станет носить коллективный, а не индивидуальный характер, и в этом отношении будет ближе к культуре первобытного общества. «Я» буржуазной культуры уступит место «мы». В новых условиях наследие старой, «буржуазной», культуры утратит свое значение. Некоторые из наиболее радикальных последователей Богданова хотели не только отвергнуть, но и физически уничтожить приметы прошлого — музеи и библиотеки и даже науку — как ненужный или даже вредный хлам. Сам Богданов придерживался более умеренных взглядов. Рабочему, писал он, следует относиться к буржуазной эпохе, как атеист относится к религии, то есть с беспристрастным любопытством. Но он не должен воспринимать ее, поскольку ее авторитарный и индивидуалистический дух ему чужд. Новая культура возникнет из неисчерпаемой творческой силы, скрытой в массах заводских рабочих, едва лишь они получат возможность писать, рисовать, сочинять музыку и заниматься любой иной интеллектуальной и эстетической деятельностью, от которой их отгородила буржуазия.