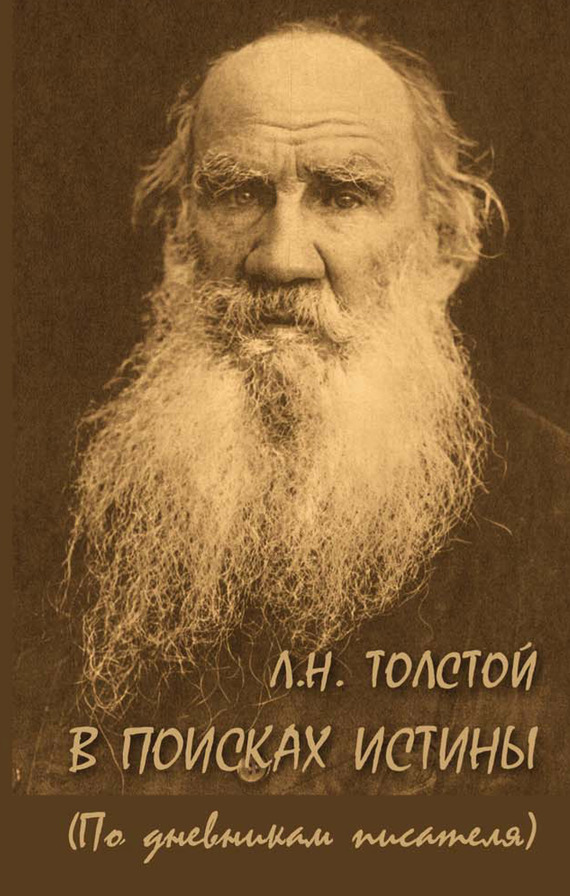заботы о жизни матерьяльной, как переудобренная почва. Если только на ней не выращивают, выпалывая, вычищая все кругом, хорошие растения, она зарастет страшной гадостью и станет ужасна. А трудно – стар и почти не могу. Вчера ходил, думал, страдал и молился, и, кажется, не напрасно.
Дневник, 21 декабря 1896 г., Москва, т. 53, стр. 127.
Все так же тяжело. Помоги, Отец. Облегчи. Усилься во мне, покори, изгони, уничтожь поганую плоть и все то, что через нее чувствую. Сейчас разговор об искусстве и рассуждение о том, что заниматься искусством можно только для любимого человека. И нежелание сказать это мне. И мне не смешно, не жалко, а больно. Отец, помоги мне. Впрочем уже лучше. Особенно успокаивает задача, экзамен смирения, унижения, совсем неожиданного исключительного унижения. В кандалах, в остроге можно гордиться унижением, а тут только больно, если не принимать его, как посланное от Бога испытание. Да, выучись перенести спокойно, радостно и любить.
Дневник, 20 декабря 1896 г., Москва, т. 53, стр. 127.
Если бы я верил в личного Бога, к которому можно обращаться с вопросом, я бы сказал: Зачем, за что Бог сделал так, что одни, зная истину несомненную, все горят ее огнем, а другие не хотят, не могут понять и принять ее и даже ненавидят ее?
Теперь 2-й час. Та же слабость. Но духом бодр, когда помню о значении всей жизни, а не этой одной, которою я прожил Львом Николаевичем. Помоги мне, Господь, делать всегда, везде Твою волю, быть с Тобою. Но не моя, но Твоя да будет воля.
Дневник, 12 января 1897 г., Москва, т. 53, стр. 131–132.
Нынче 12 января. Москва. Рано утром. Не сплю от тоски. И не виновата ни желчь, ни эгоизм и чувственность, а мучительная жизнь. Вчера сижу за столом и чувствую, что я и гувернантка мы оба одинаково лишние, и нам обоим одинаково тяжело. Разговоры об игре Дузе [112], Гофмана [113], шутки, наряды, сладкая еда идут мимо нас, через нас. И так каждый день и целый день. Не на ком отдохнуть. Таня бедная и желала бы когда-то, да слабая, с слабыми духовными требованиями натура. Сережа, Илюша… Бывает в жизни у других хоть что-нибудь серьезное, человеческое – ну, наука, служба, учительство, докторство, малые дети, не говорю уж заработок или служение людям, а тут ничего, кроме игры всякого рода и жранья, и старческий flirtation (флирт) или еще хуже. Отвратительно. Пишу с тем, чтобы знали хоть после моей смерти. Теперь же нельзя говорить. Хуже глухих – кричащие. Она больна, это правда, но болезнь-то такая, которую принимают за здоровье и поддерживают в ней, а не лечат. Что из этого выйдет, чем кончится? Не переставая молюсь, осуждаю себя и молюсь. Помоги, как Ты знаешь.
Дневник, 4 февраля 1897 г., Никольское, т. 53, стр. 133, 136.
Никольское у Олсуфьевых [114]. Я здесь уже 4-й день. И невыразимая тоска. Пишу об искусстве плохо. Сейчас молился и ужаснулся на то, как низко я упал. Думаю, спрашиваю себя, что мне делать, сомневаюсь, колеблюсь, как будто я не знаю или забыл, кто я, и потому, что мне делать. Помнить, что я не хозяин, а слуга и делать то, к чему приставлен. С каким трудом я добивался и добился этого знания, как несомненно это знание и как я мог все-таки забыть его – не то что забыть, а жить, не применяя его…
Всякое живое существо носит в себе все возможности своих предков. Выделяясь же, оно проявляет некоторые из них, неся в себе все остальные и приобретая новые. В этом процесс жизни: соединять и выделять. Еще более неясно.
Решаю непременно каждый день писать. Ничто так не утверждает в добре. Это лучшая молитва.
Дневник, 7 февраля 1897 г., Петербург, т. 53, стр. 137.
Поехал к Чертковым. У них радостно. Потом у Ярошенко [115]. Вечер дома с Соней. Нам хорошо. Молюсь, чтобы и здесь и везде не отступать от сознания посланничества, исполняемого добротой.
Дневник, 1 марта 1897 г., Никольское, т. 53, стр. 142.
Для твердости и спокойствия есть одно средство: любовь, любовь к врагам. Да вот мне задалась эта задача с особенной неожиданной стороны, и как плохо я сумел разрешить ее. Надо постараться. Помоги, Отец.
Дневник, 4 апреля 1897 г., Москва, т. 53, стр. 143.
Нынче 4 Апреля 97. Москва. Почти месяц не писал (20 дней) и дурно прожил это время – тем, что мало работал. Все писал об искусстве – запутался последние дни. И теперь два дня не писал. Спокойствие не потерял, но душа волнуется, но я владею ею. О Боже! если бы только помнить о своем посланничестве, о том, что через Тебя должно проявляться (светить) божество! Но трудно, что если это помнить только, то не будешь жить; а надо жить, энергически жить и помнить. Помоги, Отец. Молился много последнее время о том, чтобы лучше была жизнь. А то стыдно и тяжело от сознания незаконности своей жизни.
Дневник, 3 мая 1897 г., Ясная Поляна, т. 53, стр. 145.
Чувствую себя и физически и умственно и нравственно слабым. Нравственный человек начинает пробуждаться и недоволен. Помоги мне, Отец, освободиться от того, что меня связывает во мне же. Очень гадок я себе. Удивительная весна. Сейчас пришел с Козловки, принес кашки и ландыши.
Многое думал и не записывал. Ничего доброго не сделал. Капуа [116]. Волоски лилипутов [117] так связали меня, что скоро не двинусь ни одним членом, если не стану разрывать. Грустно, грустно и не от неудовлетворенности внешней. Ничего от жизни не хочу я, и не жаль мне прошлого ничуть [118], а на себя гадко, совестно, жаль своей души. Помоги, Господи. Бог, вы слышите? Наверно слышите, потому что вы же и говорите.
Дневник, 9 мая 1897 г., Ясная Поляна, т. 53, стр. 145.
Ночь, 12 часов. Пошел было спать, но сошел, чтобы записать удивительное душевное состояние: мучительная тоска и не добрая. Болезнь ли это или душевная слабость, но я очень страдаю. Молюсь.
Дневник, 16 мая 1897 г., Ясная Поляна, т. 53, стр. 145–146.
13 приезжала Софья Андреевна. Вчера получил от нее письмо. Все то же. Всю ночь не спал. Никогда страдания не доходили до такой силы. Отец, помоги мне. Научи. Войди. Усилься во мне. Не могу придти ни к какому решению. Не думать? Нельзя.