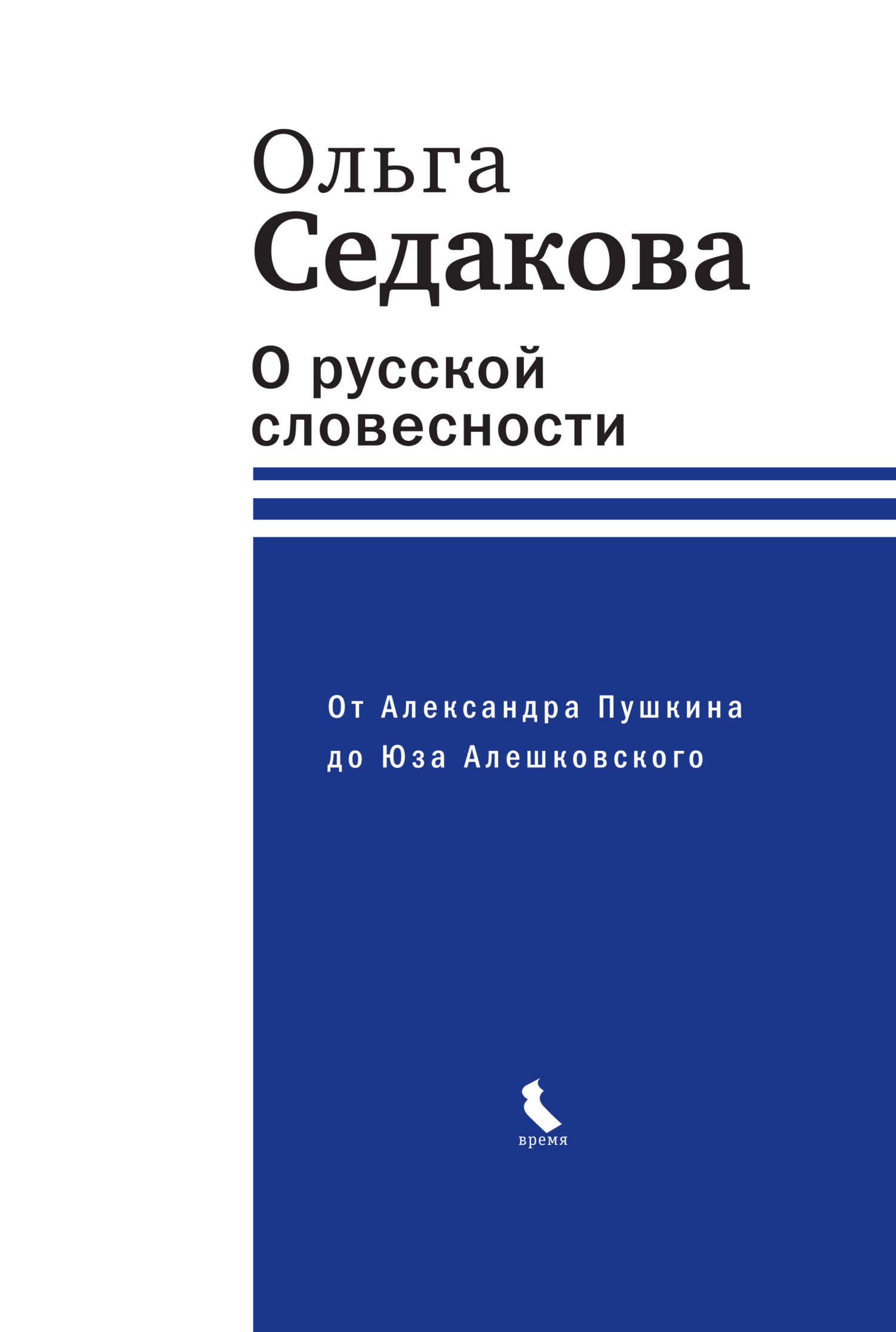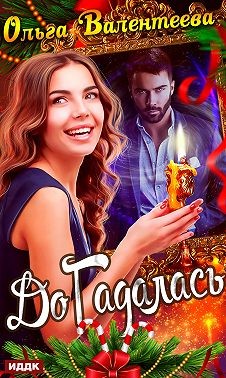интеллектуальный, травматический, познавший жестокость бытия, «как простую гамму», Сальери – вот это современный герой. На него покажут актуальные мыслители и художники: Ecce homo. В руках этого homo – история. Недавно в Москве был поставлен спектакль «Сальери for ever», где Моцарт был представлен марионеткой, а Сальери – его кукловодом. Решение предсказуемое, как вся наша «актуальность».
Как мы говорили, Сальери не пуст, не празден, он «полон собой». От этого «себя» он поразительным образом не может опустеть: отправив отравленного Моцарта умирать, он думает об одном: гений он или нет. Его «полнота собой», полнота вопросом о себе, собственно, – это не просто «дрянь», как в пушкинской эпиграмме:
Ты полон дряни, милый мой, —
а нечто куда более опасное: это яд, отложенный для подходящего момента. Для сведения счетов с врагом; для утоления собственной «жажды смерти» (после встречи со злейшим врагом или после высшего наслаждения, как сообщает он, но условия не так уж существенны).
Итак, вопрос поставлен о «всех» и «некоторых», об отношении этих «некоторых» ко «всем» и «всех» к «некоторым». Связывает ли их вечная смертная вражда, более глубокая, чем пресловутая классовая ненависть, первая вражда в мире: вражда Каина к Авелю? Есть ли возможность «всем» стать как «некоторые»? Моцарт уверенно отвечает: нет,
тогда б не мог
И мир существовать…
Однако случай Оболенского, с которого мы начинали, подсказывает: пока есть эти «некоторые», «праздные», «нули», мир и может существовать. Тогда и «нужды низкой жизни» освещены и украшены памятью о том, что и «я – миллион».
Это вопрос о том, что несет человеку искусство – иначе говоря, дар, еще иначе, счастье, еще иначе, благодать: нечто, превышающее его представление о собственных возможностях. Унижает оно другого человека или умножает? Отвечает на это другой вопрос: а кто, собственно, этот «человек», о котором мы печемся, кто эта «единица»? Сальери или адъюнкт Оболенский? Кого оскорбляет человек дара – человек, спокойно знающий про себя, что он празден, что он пуст? Что эта своя пустота и есть условие бесцельного «наслажденья жизни», то есть гениальности – музыки, любви? «Безделица» (как назвал свою убившую Сальери пьесу Моцарт), которая возникает именно тогда, когда «делать нечего» и «ничего не поделаешь». И не так существенно, превосходит ли наслажденье любви музыку или совершенно подобно ей. И чему оно больше подобно – музыкальной вертикали («но и любовь – гармония») или музыкальной горизонтали («но и любовь – мелодия»). Мне больше нравится второе уподобление: ведь мелодия – это расцветающее время [83]. Не миг, не вечность, не «все» – но очень много: миллион.
2001–2003
Пушкин Ахматовой и Цветаевой
И столетие мы лелеем
Еле слышный шелест шагов.
Анна Ахматова
Пушкиным не бейте!
Ибо бью вас – им!
Марина Цветаева
Российскому читателю не приходится напоминать о том, что так трудно объяснить за пределами русского языка: о мере Пушкина в нашей культурной истории, а лучше сказать, в том, что Ходасевич назвал «русской легендой». Это не просто мера Первого национального поэта, создателя литературного языка, основателя национальной школы словесности; это и не мера удивительной личности, «русского человека, каким он станет через сто лет» (словами Гоголя), своего рода святого светской культуры, героя собственного жития. Пушкин русской легенды, кроме другого, – таинственный мудрец; в скромной простоте его речи философская герменевтика ищет орфическую глубину, космологические откровения. Но кроме всего названного, в российской славе Пушкина есть еще и неопределимая область избытка, открытая самым разным интерпретациям (так, ничто не мешает представить пушкинский мир как тотально игровой и иронический). Пушкин русской легенды – это ее сердцевина, ее «первая любовь», как сказал о нем Ф. Тютчев. В этой любви, в своем первом свободном самораскрытии:
Как Дездемона, избирает
Кумир для сердца своего —
которое носит для нас имя Пушкина, русская мысль, как в гадательном зеркале, пытается узнать себя и собственное будущее.
И это при том, что собственно литературное воздействие Пушкина на отечественную словесность весьма незначительно; в стихотворном отношении оно явно уступает Жуковскому, Некрасову и Блоку; что до прозы, то пушкинская нарративная и композиционная техника осталась где-то в прологе на небесах; на земле история российской прозы началась Гоголем. Без прямого продолжения остались пушкинские опыты в драматургии, его своеобразнейшая критика, историография, эпистолярий – вещи как будто слишком изысканные, слишком аскетичные и мало «идейные» для большой русской литературы, какой ее узнали в мире. Загадочность славы Пушкина в России, явно несопоставимой с конкретным знанием его сочинений (ведь до нынешнего времени не осуществлено удовлетворительное издание его текстов – что говорить о том, с какими версиями имел дело читатель прошлого века!), его миф, которым многим приходится принимать просто на веру, и который всегда готова утилизовать официальность, не раз провоцировал демократические бунты против Пушкина – олимпийца и генерала. И с еще большей силой во времена таких бунтов, в эпохи культурных затмений и крушения гуманизма Пушкин становился оберегом – часто последним, гением-хранителем свободной творческой культуры, «веселым именем», как писал умирающий Блок, которое соединяет «верных» и с которым не страшна обступившая тьма.
И Марина Цветаева, и Анна Ахматова принадлежат к таким «верным» Пушкина. Их поэтическое становление проходило в эпоху, освещенную славой Пушкина, как никакая другая. Поэтическая герменевтика (эссеистика Вяч. Иванова, В. Брюсова, Блока, Белого, Ходасевича, Мандельштама), философско-религиозные прочтения (Вас. Розанов, М. Гершензон и др.) открывали Пушкина, неизвестного его собственным современникам и всему XIX веку, не далеко уходившему от наивного биографизма и «реальной» (то есть общественно-политической) критики. Именно тогда, в Серебряном веке, легенда Пушкина как некоторого предельного приближения к самой сути Поэзии, возможного на русской почве, получила содержательную аргументацию.
И Цветаева, и Ахматова, поэты самого просвещенного из литературных времен России, владели не только лирическим словом. Их «разговор о Пушкине» (как понятно из сказанного, это значило: разговор о Поэзии, разговор о России, и, наконец, постулирование собственных творческих принципов) проходил не только в лирических строфах, но и в дискурсивной прозе – которая, впрочем, так же, как и стихи, несет на себе явный оттенок ex-voto, своего рода благодарственного приношения гению места [84].
При этом пушкинские опыты Цветаевой и Ахматовой, полярные во многих отношениях, неожиданным образом сходятся в том, что пушкиниана начала века, символистская в своем истоке, как будто не