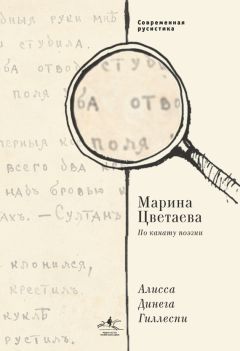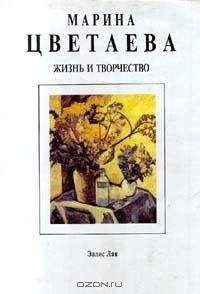ее политический подтекст П. В. Анненков: см. [Бонди 1931: 103]. Анализ всевозможных трансгрессий в поэме см. [Kahn 2012:261–282].
Черновик воспроизведен в издании [Пушкин 1995: 39].
В хронологии и библиографических ссылках у Бонди содержится несколько неточностей.
См. также [Брюсов 1975: 23]. – Примеч. ред.
Попытка самого Томашевского реконструировать текст стихотворения
(с некоторыми пропусками и ошибками) содержится в [Томашевский 1922: 41–42] (см. также Приложение Б к данной главе, рис. 2).
Полный реконструированный Бонди текст см. в Приложении А к данной статье.
Томашевский прочитал эту вычеркнутую строку ошибочно: «труд» вместо «досуг» (см. Приложение Б, рис. 2).
Письмо к Дельвигу, куда вошло это стихотворение, содержит пародию на молитву Ефрема Сирина, спародированную также в финальной части «Гавриилиады». Таким образом, письмо к Дельвигу и сопровождающее его стихотворение тесно связаны с «Гавриилиадой» и, следовательно, с фрагментом «Вот муза…», хотя Пушкин, предположительно, в момент написания письма еще не начал писать поэму.
Бонди непосредственно связывает этот опасный политический подтекст «Гавриилиады» со строкой «Придворный тон ее пленил» из фрагмента «Вот муза…» и отмечает, что поэтический ответ Пушкина «на корыстное ханжество клерикальной партии» (по выражению П. В. Анненкова) – это обвинение в адрес «самого Александра и его приближенных», «сознательное политическое, антиправительственное выступление» [Бонди 1931: 103]. Бонди также приводит полное иронии и намекающее на двор «выражение Пушкина в письме к Вяземскому, при посылке ему “Гаврилиады”: “Посылаю тебе поэму в мистическом роде; я стал придворным”» [Там же] (орфография и пунктуация даны по цитируемому изданию 1931 года. – Ред.). Это пример иронического двоеречия Пушкина, служащего ключом к пониманию смелых намеков и во фрагменте «Вот муза…», и в «Гавриилиаде».
Точно неизвестно, к кому адресованы эти слова в «Гавриилиаде». П. К. Губер предлагает две гипотезы: Мария Эйхфельдт («считалось почему-то, что она похожа на Ревекку – героиню известного романа Вальтер-Скотта “Айвенго”») и некая «миловидная содержательница одного из кишиневских трактиров» [Губер 1923: 97]. В другом скабрезном коротком стихотворении, «Христос воскрес, моя Ревекка» (апрель 1821), Пушкин сходным образом обращается к возлюбленной-еврейке, выражая готовность перейти в «веру Моисея» взамен на поцелуй и даже вручить ей «то… / Чем можно верного еврея / От православных отличить» [ПСС II, 1:186]. Хронология биографии Пушкина позволяет предположить, что стихотворение обращено к упоминаемой Губером трактирщице [Цявловский 1999,1: 242].
Б. М. Гаспаров указывает на присутствие мотива «инфернальной печати» в послании «В. Л. Давыдову» и других стихотворениях, написанных (так же как и «Вот муза…») весной 1821 года: «Этот гротескный образ соположен с известием о начавшемся “бунте” князя Ипсиланти. Последний выступает в образе “безрукого князя”, то есть также несет на себе “отмеченность”, характерную для образа грешника/лже-мессии». Позже, с написанием стихотворения «Пророк», мотив поэтического «увечья» теряет прежний гротескный характер, притом оставаясь глубоко двусмысленным: «Носитель пророческой миссии наделяется физическим недостатком, который служит “печатью” его встречи с божественной силой. […] Как и вдохновенное сверхъестественное видение пророка, эта черта в такой же степени может быть знаком сакральной миссии, как и знаком сопричастности демоническим силам. […] “Хромота” становится в такой же степени знаком избранности пророка, как и знаком тщетности его усилий» [Гаспаров 1999: 206, 250, 251].
Б. М. Гаспаров отмечает, что финальная рифма «грехи – стихи» – одна из любимых у Пушкина. В интерпретации Гаспарова эта рифма передает парадоксальность статуса поэта одновременно как грешника, мучимого в аду, и демиурга, способного спасти мир [Гаспаров 1999: 181].
В сообществе Иисуса и прочих одиннадцати апостолов Иуда был тринадцатым – отсюда и связь со смутой. Суеверность Пушкина была хорошо известна, племянник Пушкина Л. Н. Павлищев вспоминает, что Пушкин отказывался сесть за стол, если число присутствующих составляло тринадцать [Павлищев 1890: 119].
Советский пушкинист Д. Д. Благой пространно и красноречиво рассуждает о композиционной симметрии Пушкина – см. [Благой 1955:101–115]. Авторитетный американский пушкинист Дж. Т. Шоу, с другой стороны, исследует важность отклонений от строгой композиционной симметрии, характерной для Пушкина (особое внимание Шоу обращает на систему рифмовки); по мнению Шоу, «отход от собственных правил» у Пушкина имеет истинной целью «выразительность» [Shaw 1993: 17]. Как явствует из заглавия книги Шоу, он не включает в свое исследование такие отклонения от сложившейся модели, как «лишняя» рифма, которую мы находим во фрагменте «Вот муза…».
Несколько лет спустя Пушкин напишет на полях статьи Вяземского: «Господи Суси! Какое дело поэту до добродетели и порока? разве их одна поэтическая сторона» [XII: 229]. Формальная избыточность строки 5 в «Вот муза…» косвенным образом передает ту же идею.
Бонди завершает анализ фрагмента «Вот муза…» следующим заявлением: «Несмотря на некоторую недоработанность (синтаксис, повторение эпитета “опасный”) – это все же цельное стихотворение, а не разрозненные отрывки)» [Бонди 1931: 103].
В другой главе в этой книге утверждаю, что тайна является, возможно, центральной темой «Гавриилиады»: «Таким образом, Пушкин в “Гавриилиаде” открывает, что для него интеллектуальное, сексуальное, духовное и поэтическое стремления к тайнам тождественны – это всего лишь разные аспекты трансгрессивного, антиавторитарного любопытства поэта, его бесстрашного поиска трансцендентного через связь с табуированным» (см. с. 191 данной книги).