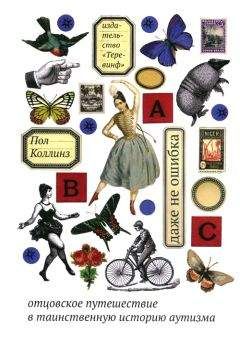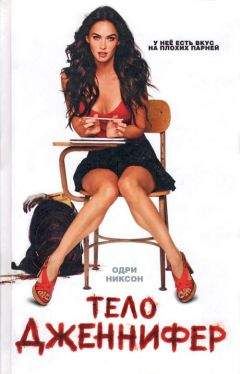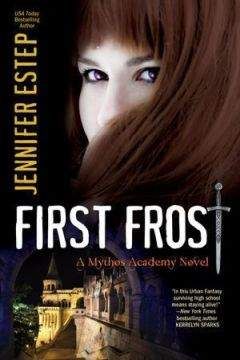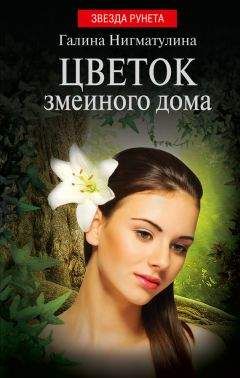Четвертая часть
Безопасно там, где числа
Дорожка к библиотеке Бэнкрофт в Беркли идет в гору. По пути вы непременно на что-нибудь засмотритесь: на маленькую лавку с большим лотком для мороженого, на магазин игрушек, переполненный неизбежными играми для любителей «войнушки», на людей в кофейне, куда все время перебегают через дорогу прохожие из кампуса. Пройдете пешеходными мостиками через Земляничную протоку — красивый маленький ручей (если, конечно, не боитесь быть пронзенными потоками трития, излучаемого из ядерной лаборатории), продеретесь через строгий допрос библиотечного служащего в зале редких изданий, потом через еще один в региональном офисе устной истории — и вот вы наконец-то сидите за столом и слушаете записанное на пленку интервью с Артуром Шолоу, получившим Нобелевскую премию в конце 1950-х за участие в создании лазера.
На стороне А, дорожка 12, он говорит вовсе не о своей лаборатории, где были осуществлены его знаменитые эксперименты, и не о годах, проведенных впоследствии в качестве профессора колледжа в Калифорнии. Он говорит о своем сыне Арти. Понимаете, объясняет он, Арти любил поплавать. И с раннего утра в наш дом начинали звонить соседи: Арти с удовольствием плескался в бассейнах на задних дворах то одного, то другого дома. Мы никак не могли объяснить сыну, что можно делать, а что нельзя: даже после сооружения ограды, после навешивания на двери задвижек и замков он порой удирал из дому. Да нет, не ради бунта. Просто хотел поплавать.
Вот интервьюер спрашивает, есть ли какой-то реальный контакт между отцом и сыном: голос Шолоу на записи словно затухает. «Нет, — отвечает он, — нет». Конечно, они пытались как-то установить с ним контакт, но в то время было еще так много всего, чего они не знали. Шолоу и его жена воспитывали аутичного ребенка в ту эпоху, когда, например, для их стэнфордского психиатра самый важный вопрос заключался в том, каким же образом мать Арти психически сломала своего ребенка. Но что им нужно было делать для коммуникации с сыном? Чертовски трудный вопрос. Аутисты ведь не воспринимают свою жизнь как какую-то тайну: они вполне очевидны для самих себя. А вот общение с аутистом кого-то другого напоминает неразрешимую загадку, и обоим ее участникам приходится очень постараться, чтобы быть понятым.
Порой это срабатывает. «Из всех известных проявлений человеческого героизма, — писал палеонтолог Стивен Джей Гульд незадолго до смерти, — я не встречал более благородных, нежели борьба и преодоление, которые характерны для тех людей, кого жизненные несчастия лишили самых обычных атрибутов нашей обычной жизни». Написано это о молодом человеке по имени Джесс — аутисте, обладающем пугающими способностями в обращении с числами. Чем-то он напоминал самого Гульда с его увлечением статистическими данными о бейсболе. Джесс же был ходячий вычислитель дат: назовите ему любую дату — и он тут же скажет, на какой день недели она выпадает. Гульду было любопытно узнать: понимает ли Джесс важность числа 28 для вычисления дат в уме — ведь календарь повторяется каждые двадцать восемь лет. Однако, когда Гульд спросил Джесса о значении числа 28, тот ответил несколько парадоксально: «Пять недель».
Гульд долго ломал голову в догадках, что это может значить. Может, это просто бессмыслица, часть стереотипной аутистической мозаики из слов и звуков?
«Через несколько часов меня пронзила догадка, — написал позднее Гульд. — Его решение оказалось столь красивым, что я расплакался».
Джесс пытался коммуницировать. Вместо того чтобы опираться на закрученный алгоритм, который выработал Гульд для вычисления дат, Джесс элегантно применил чуточку арифметики. В году 52 недели, но всегда остается один или два «лишних» дня; за 28 лет «набегает» 35 лишних дней, что составляет ровно 5 недель. Так что 28 лет — это самый первый интервал с одними и теми же днями недели для одинаковых дат, в прошлом и настоящем.
Интеллектуальная красота ответа Джесса вызвала у Гульда слезы; думаю, что еще более он был тронут той настойчивостью, которую демонстрировал этот ответ.
«Он ведь мой сын, первенец, — писал Гульд, — и я им очень горжусь».
— Привет. Я — Марс.
Морган неустойчиво балансирует на ручке кресла, наблюдая, как я готовлю сэндвич на кухне, и все повторяет и повторяет кусок диалога из детского телешоу, минут на пять.
— Привет, — продолжает он. — А я Юпитер.
— Эй, Морган, — я наконец выхожу из кухни и вытаскиваю из ящика с игрушками доску для рисования. — А давай-ка вместе нарисуем все планеты?
— У Сатурна ледяные кольца, — продолжает он, но все-таки спускается вниз — посмотреть, что я делаю.
Я рисую кружок с кольцами и подписываю снизу: «САТУРН». Он читает:
— Сатурн, — и схватив мою руку, тянет ее к дощечке.
— Хочешь еще картинку?
— Привет, я — Уран, — говорит он. — Уран вертится в другую сторону.
— Хорошо, Уран так Уран, — я начинаю рисовать. Но к тому времени, как мой неряшливо-контрастный рисунок планеты, покрытой облаками, готов, он уже теряет интерес к этому и направляется к окну гостиной. Я, возвратившись в кухню, доделываю ему бутерброд и накрываю на стол. Он начинает есть, не отрывая взгляда от окна.
— Морган, ты хочешь на прогулку?
— Хочешь на прогулку, — повторяет он с набитым ртом.
— Отлично, — я собираю свой прогулочный набор, покуда он доедает, — влажные салфетки, мелочь, ключи… — Ну, пойдем гулять.
Только мы выходим на солнышко, он начинает проситься на плечи.
— Морган, ты хочешь на детскую площадку пойти? — я поднимаю его на плечи. — На площадку?
В ответ — бесцельное гудение себе под нос.
— На детскую площадку? Морган, ты хочешь…
Хммм-ммм-ммм-хммм-хммм.
— Или в парк?
Хммм-ммм-ммм-хммм-хммм.
Дойдя до перекрестка около нашего дома, я встаю перед дилеммой, куда идти дальше: он не подает ни единого знака, который дал бы мне понять, куда же ему самому хочется.
— Ой-ой! — он поворачивает мою голову налево, словно штурвал парусника. — О’кей, идем этой дорогой.
Он направляет меня на автобусную остановку, подпрыгивая от возбуждения при прибытии автобуса. Я достаю мелкие деньги. Наверное, предполагаю я, мало кто так прельщается возможностью покататься на общественном транспорте. Это, однако, не совсем так: находятся, находятся и такие. Один из одноклассников Моргана, насколько я знаю, запоминает все расписания местных автобусов.
Пожалуй, в увлечении расписаниями есть какая-то странная прелесть. Когда мы жили в Сан-Франциско, я был просто ошарашен однажды: вдруг перестали выпускать расписания местной автобусной компании. Толстые брошюры традиционно лежали нетронутыми в лотках с надписью «Возьмите одно» в передней части салона. Обращались к этим распечаткам разве что туристы; местные жители не были столь наивны, чтобы планировать свой день в соответствии с расписанием. Однако простое присутствие этих брошюрок кое-что да значило. А именно, что какой-то определенный порядок незаметно присутствует в работе городских служб — или присутствовал ранее, когда-то, пусть даже давно, пусть даже в теории. В любом случае это был успокаивающий жест, и даже бесполезные дополнения в расписаниях доставляли удовольствие.
«Каждый человек — виртуоз на своем собственном инструменте, — писал романист Томас Бернхард[44], — но порой даже виртуозы создают невообразимую какофонию». Мир людей и транспорта, который их возит, хаотичен: расписание же вносит в этот мир повседневную красоту. Постоянно обновляемые расписания — это ведь нечто вроде цифровой фуги, вы можете проследить их развитие, словно развитие музыкальной темы внутри гармонической последовательности.
Двери автобуса открываются, и мы с Морганом заходим. «Три малышки-обезьянки распрыгались в кроватке», — поет он во весь голос, пока мы едем по Хоторну. Его руки вложены в мои, я показываю содержание песенки жестами. Я рад, что он так полюбил «Обезьянок»; любит он выкрикивать и название песни «Хлопай в ладоши и смейся». Правда, у него получается что-то дзенски-парадоксальное: «Испорть и смейся»[45]. Наш автобус проезжает мимо старинного масонского храма и кинотеатра постройки 1920-х годов, куда мы иногда берем Моргана смотреть мультфильмы — не больше чем на час, иначе он становится чересчур возбужденным; по другой стороне улицы следуют друг за другом книжные магазины, кофейни, затем пекарня, и Морган прилипает к окну, разглядывая все это и продолжая петь. Три малышки-обезьянки… две малышки-обезьянки… одна малышка… «Я совсем один».
Я резко поворачиваю голову к нему. Морган улыбается странно, все глядя в окно, и поет… Господи ты Боже мой… Я са-сем один. Нет-нет, ни на какие другие слова это не похоже…