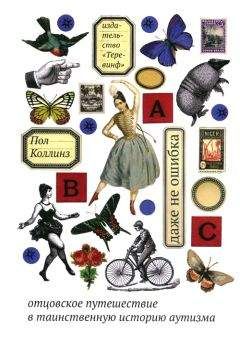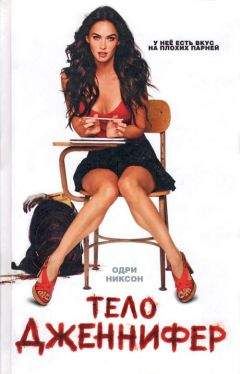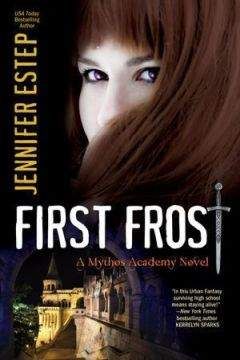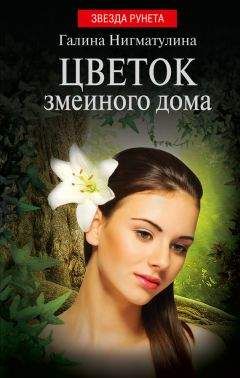Но не в этот раз.
— Морган, ты можешь ска…
— Попко, — шепчет он.
Говорит, не глядя на меня. Но все-таки говорит.
Слова иногда просачиваются к нам. «Мороженое». «Телевизор». «Улица». Разок Марк позвал нас с игровой площадки — взволнованный до такой степени, что едва мог говорить. «Он меня назвал по имени. Назвал по имени! Застрял на „лазалке“, ему нужна была помощь, и он сказал: „Марк“!» Слова появляются медленно, по одному. Не предложения, не фразы, только отдельные слова — но все-таки слова, связанные с его желаниями. Занятия в классе Барб и бесконечная «дрессировка» с карточками дома двигают его маленькими шажками вперед — медленно, но заметно. Несколько слов он произносит устойчиво; другие появляются и исчезают. Есть слова, которые мы никак не можем разгадать, а некоторые — не может понять и он.
Вот мы устраиваемся на большой кровати: я сажусь с газетой, а Морган шлепается у меня в ногах и листает страницы книги. Это дорогущий фолиант колоссальных размеров с компиляцией новостей в течение всего двадцатого века — такие обычно распродаются за полцены, как только ажиотаж вокруг нового тысячелетия слегка успокаивается. Это самая большая книга на полке в нашей спальне, и Морган в последнее время стал карабкаться за ней по утрам, выковыривая ее, словно булыжник, с полки, роняя на пол, затаскивая с пола на кровать, а затем методично пролистывая все ее полторы тысячи страниц. В одно прекрасное утро я проснулся под звуки его голоса, объявляющего заголовки декабря 1919 года не хуже радиодиктора. «Сенат проголосовал против Версальского договора». Пауза. «Новый закон ограничил рабочее время детей…»
Сегодня, однако, он читает книгу молча, останавливаясь разве что для того, чтобы погрузить лицо в холодные глянцевые страницы. Вдруг он перебирается через мою газету и хватает меня за пальцы.
— Что ты хочешь, малыш?
— Хочес-хочес, — вторит он эхом.
И тянет мою руку к строчкам книги: ему хочется, чтобы я прочитал заголовок июля 1921 года.
— Ну хорошо. «Де Валера в Лондоне начинает мирные переговоры».
Он упирает мой палец в слово.
— Валера. Валера, — говорю я. Валера-Валера-Валера. Ох… Ты хочешь знать, что это означает. Я… мгм, ох…
Он ждет терпеливо.
— Валера — это человек, — начинаю я. — Это такой дядя, которого зовут Валера.
Я с замиранием сердца ожидаю, что сейчас он, неудовлетворенный неуклюжей «рекурсивной» логикой, снова и снова настойчиво будет тыкать моим пальцем в это слово. Вижу, что он начинает разглядывать следующий заголовок: «Двое итальянских анархистов обвиняются в убийстве». Это еще хуже. Мне не хочется объяснять ему ни одного слова из этой фразы, разве что «двое» и «в». При этом я не очень-то представляю, как можно определить «в». Он, однако, отпускает мою руку: мои услуги больше не нужны.
Огромный мир, буквально с первых приветственных слов людей друг другу, остается для Моргана настолько чужим, что я даже не знаю, как к нему со всем этим подступиться. Ну как бы вы объяснили, что такое война? Или — мир, без представления о котором невозможно объяснить войну? Чтобы рассказать об итальянцах или ирландцах, нужно рассказывать о странах, а это снова означает объяснять, что такое война. А убийство? Говоря об этом, придется поведать, что люди не всегда нормально относятся друг к другу, и… опять про войну, никуда от нее не деться. И за всем этим стоит понятие смерти. Пока ему и жизнь-то довольно трудно представить; а смерть?
Философ Ипполит Тэн[51], наблюдавший в 1876 году за развитием одной девочки, изумлялся: «Ее первым вопросом было — как он говорит? Как кролик говорит? Как птичка говорит? Как лошадка говорит? А как большое дерево говорит? Будь то растение или животное, она относилась к ним как к личностям; хотела узнать, что они думают и говорят». Все в мире для тэновской малышки казалось живым, в ее мире не было ничего мертвого:
Когда у ее куклы оторвалась голова, ей сказали, что кукла теперь умерла. А бабушка как-то сказала ей: «Я уже старая, долго не буду с вами; скоро умру». «А, так у тебя голова оторвется», — был ответ. Она повторяла эти слова несколько раз. Так что, можем мы заключить, в возрасте трех лет и одного месяца для нее смерть была равнозначна отрыванию головы. А на днях садовник убил сороку и привязал ее к верхушке огородного пугала; прослышав о мертвой сороке, девочка захотела на нее посмотреть. «Что же теперь делает сорока?» — спросила она. «Ничего не делает; она теперь не пошевелится уже никогда, она мертвая». — «Ого!» Так мысль об окончательной обездвиженности впервые пришла ей в голову. Позвольте предположить, что люди остаются с этой идеей, и для многих нет никакого другого определения смерти, кроме как связанного с идеей неподвижности. В их представлении где-то там, по ту сторону, неподвижные мертвецы продолжают жить какой-то смутной формой жизни.
Ну, у нас в саду мертвые птицы нигде не висят. А если по телевизору показывают репортаж про какое-нибудь насилие — мы тут же выключаем. Морган никогда не видел оружия — ни настоящего, ни картинок; он вообще не представляет, что это такое. Насилие, смерть, государства, преступники, оружие, войны — обо всех этих понятиях абсолютно невозможно с ним говорить. Мы и не пробовали. Этих реалий для него еще нет.
Дженнифер возвратилась домой, отвезя его в школу: скидывает куртку и туфли со вздохом облегчения.
— Вернулась пешком?
Она кивает. Машины у нас нет; Морган ездит в школу на такси, а Дженнифер возвращается на автобусе или — когда погода хорошая — идет пятьдесят кварталов пешком.
— Эти мои новые туфли явно не для таких прогулок.
— О, это тяжелое обвинение для обуви.
— Ну, по крайней мере они не для пятидесяти кварталов, — она начинает рыскать по карманам одежды в поисках бумажки. — Знаешь, я тут увидела на обратном пути дом на продажу.
Она протягивает рекламный листочек агентства недвижимости: английский готический дом довоенной постройки, с претензией на современность, отделанный уродливым сайдингом, который надо незамедлительно отодрать, с большим травяным двором.
Мы с Дженнифер интересуемся рекламами чьих-то продаваемых домов, как заправские вуайеристы. Хотя у нас уже есть свой. Красивый. Мне нравятся его столетние скрипучие полы; нравится разбираться, как каждые двадцать лет, вновь и вновь, дом менялся согласно прихотям многочисленных хозяев. В нашем доме можно жить на одном этаже, не поднимаясь наверх: так можно прожить в нем целую жизнь и состариться. И я был бы счастлив никогда больше не переезжать.
До тех пор пока…
— Этот дом в объявлении — на две квартиры. Дуплекс.
— Да, я заметил.
— Если мы когда-нибудь соберемся переезжать… я порой думаю, это был бы выход.
— Если кому-то из наших родителей нужно будет жить вместе с нами, то… это имеет смысл.
— Ну да, правильно.
— Да и Морган, вот вырастет он…
— Да. Да.
— Или это может быть местом для гостей. И гараж там есть… Это бы пригодилось.
— Да, так было бы лучше. Возможность дать ему больше самостоятельности, при этом мы ведь будем… Ты понимаешь. Мы-то никуда при этом не денемся.
Через открытое окно гостиной слышно птиц, наверно, так же они пели и двадцать, тридцать, сорок лет назад. Я смотрю на две фотографии на пианино: на одной мы, сбежавшие в Британскую Колумбию[52]: на снимке только мы, сотрудница местного загса, ее помощница, а свидетелями выступают крякающие утки. Парочка малышей, принесших черствый хлеб покормить уток, прерывала тогда хихиканьем наши обеты, что вполне соответствовало происходящему. На другой фотографии, несколько лет спустя, мы на одной из улиц Сан-Франциско; я держу на руках шестимесячного Моргана. Он смотрит прямо в объектив, хотя, возможно, на самом деле он смотрит на поезд, который едет перед нами.
Конечно, я и раньше понимал, что родительство — это на всю жизнь, во всяком случае так должно быть. И все же теперь что-то изменилось. Я думаю о недавнем разговоре с одним специалистом по аутизму; когда речь зашла о том, как живут взрослые аутисты, мне был беззаботно поведан рассказ о сорокалетием аутичном человеке, инженере по компьютерной безопасности, который по-прежнему живет с родителями.
— Наверное, всегда есть возможность устроить жизнь взрослого аутиста вместе с его близкими или рядом с ними, пока они есть, — сказал я тогда.
Мой собеседник поднял бровь, обратив внимание на выбранные мною слова:
— Да нет, это не возможность, — поправил он меня. — Это самая большая вероятность.
Такие слова, наверное, должны произвести шокирующее впечатление. Однако ничего подобного. И на душе, конечно, должно быть очень тяжело, когда осознаешь такие вещи… но нет. Всего-то — не отпускать своего ребенка: да ведь представить это совсем просто!