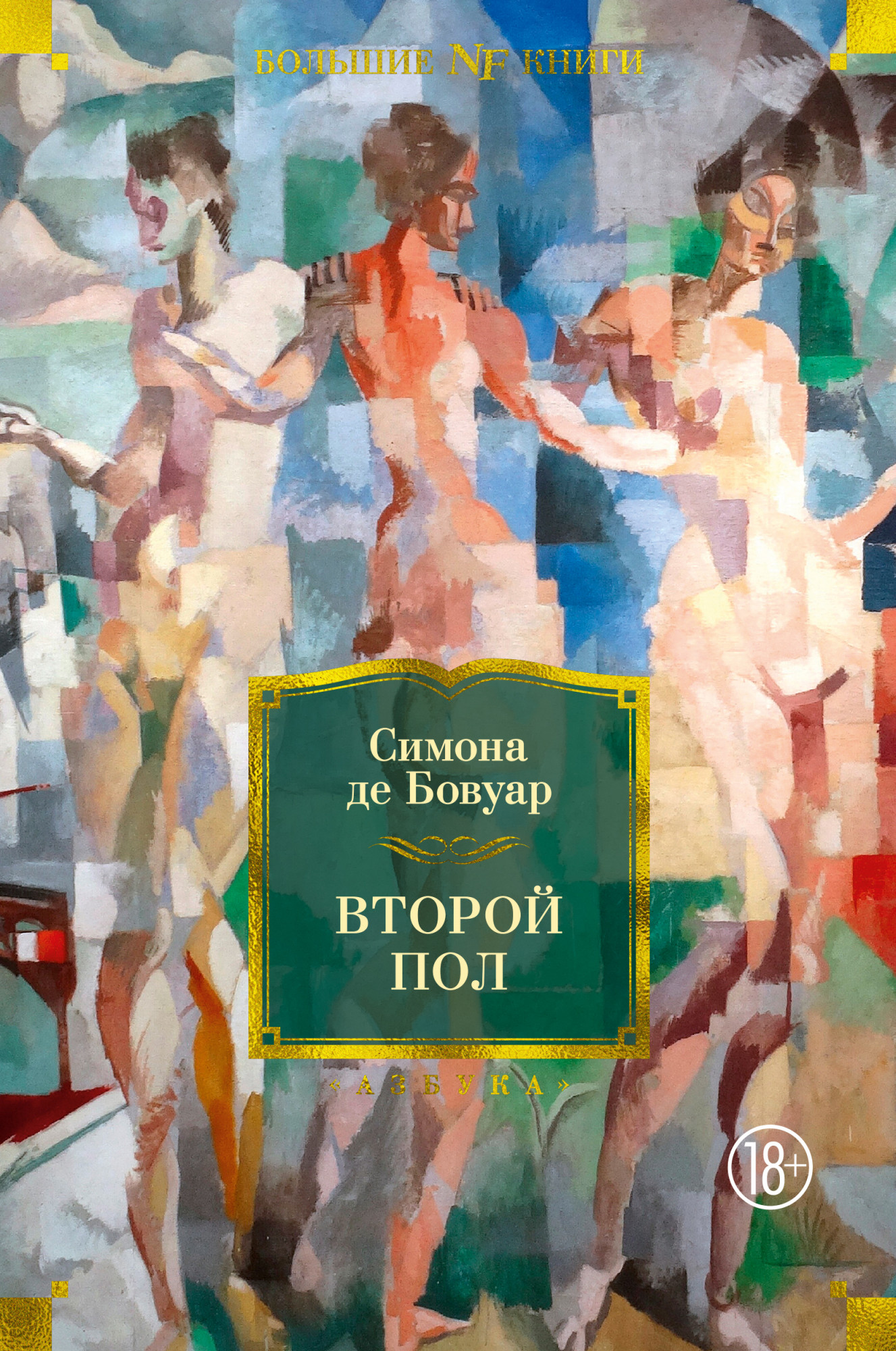я надеюсь быть». Ту же двойственность мы наблюдаем у Наташи из «Войны и мира»:
«Мама и та не понимает. Это удивительно, как я умна и как… она мила», – продолжала она, говоря про себя в третьем лице и воображая, что это говорит про нее какой-то очень умный, самый умный и самый хороший мужчина… «Все, все в ней есть, – продолжал этот мужчина, – умна необыкновенно, мила и, потом, хороша, необыкновенно хороша, ловка – плавает, верхом ездит отлично, а голос! Можно сказать, удивительный голос!»…
Она возвратилась в это утро опять к своему любимому состоянию любви к себе и восхищения перед собою. «Что за прелесть эта Наташа! – сказала она опять про себя словами какого-то третьего, собирательного мужского лица. – Хороша, голос, молода, и никому она не мешает, оставьте только ее в покое».
Кэтрин Мэнсфилд в персонаже Берил также описывает случай, когда нарциссизм и романтическое желание женской участи тесно переплетены:
У мерцающего огня камина в столовой на мягком пуфе сидела Берил и играла на гитаре. Она играла и пела для себя одной и, пока играла и пела, не переставала любоваться собой. Отблески пламени падали на башмаки, на красноватую деку гитары, на белые пальцы Берил…
«Если бы, стоя за окном, я увидела себя, я, несомненно, влюбилась бы», – подумала она. И она заиграла аккомпанемент еще мягче и уже не пела, а только слушала.
«Первый раз, когда я тебя увидел, моя крошка, – а ты и не подозревала, что кто-то смотрит на тебя, – ты сидела на мягком пуфе, подогнув маленькие ножки, и играла на гитаре. Боже, я никогда не забуду…» – Берил откинула голову и запела снова:
Даже луна устала…
Но тут раздался громкий стук в дверь, и в комнату просунулось багрово-красное лицо служанки… Нет, эта дурацкая девчонка совершенно невыносима. Берил влетела в темную гостиную и зашагала из угла в угол. Она никак не могла успокоиться, никак… Над камином висело зеркало. Она обеими руками оперлась о каминную доску и взглянула на отразившуюся в нем бледную тень. Какая она красивая, и нет никого, кто бы посмотрел на нее, никого… Берил улыбнулась, и ее улыбка действительно была так прелестна, что она снова улыбнулась, но на этот раз уже просто потому, что не могла не улыбнуться («Прелюдия») [314].
Этот культ собственного «я» выражается у девушки не только в обожании своей физической личности; она хочет владеть своим «я» и воспевать его целиком. Именно с этой целью она ведет дневник, в котором так любит изливать душу; знаменитый дневник Марии Башкирцевой – образец этого жанра. Девушка разговаривает со своей тетрадкой, как совсем недавно разговаривала с куклами, для нее это друг, поверенный, к нему обращаются как к человеку. На его страницах запечатлена правда, которую девушка скрывает от родителей, подруг, учителей, которой упивается в одиночестве. Одна двенадцатилетняя девочка, которая вела дневник до двадцати лет, написала на его первой странице:
Я маленький блокнотик,
Красивый, милый, скромный,
Поверь мне все свои секреты,
Я маленький блокнотик [315].
Другие девушки пишут в начале: «Прочесть только в случае моей смерти» или «После моей смерти сжечь». Склонность к секретам, развившаяся у девочки в препубертатном возрасте, только обостряется. Она замыкается в себе, становится нелюдимой, отказывается открывать окружающим то тайное «я», которое считает истинным и которое на самом деле является воображаемым персонажем: она видит себя танцовщицей, как Наташа у Толстого, или святой, как Мари Ленерю, или просто единственным в своем роде чудом. Между этой героиней и тем объективным обликом, какой знают родители и друзья, нет ничего общего. Поэтому девочка убеждает себя, что ее не понимают, и с еще большей страстью углубляется в себя, упиваясь своим одиночеством; ей кажется, что она не похожа на других, она выше их, она – исключение, и она говорит себе, что будущее вознаградит ее за нынешнее серое существование. От своей ограниченной и жалкой жизни она скрывается в мечтах. Она всегда любила мечтать и теперь будет предаваться этой склонности с еще большим пылом; она заслоняет поэтическими штампами пугающий ее мир, окружает мужской пол сиянием лунного света, розовыми облаками, бархатной ночной темнотой; она превращает собственное тело в храм из мрамора, яшмы и перламутра; она сочиняет для себя глупые сказки. Девочка так часто погружается в нелепые выдумки, потому что лишена власти над миром; если бы ей приходилось действовать, она бы разбиралась в нем лучше; но она может лишь ожидать в тумане. Юноша тоже мечтает, но мечтает в основном о приключениях, в которых играет активную роль. Девушка предпочитает приключению чудо; все вещи и люди окутаны для нее смутным магическим ореолом. Но идея магии – это идея пассивной силы; девушка, обреченная на пассивность и в то же время жаждущая власти, неизбежно верит в магию – в магию своего тела, которое полностью подчинит себе мужчин, в магию судьбы, которая вознаградит ее без всяких усилий с ее стороны. О реальном же мире она старается забыть.
«Иногда в школе я, сама не знаю как, отвлекаюсь от объяснений и улетаю в страну грез… – пишет одна девушка [316]. – Меня так сильно захватывают восхитительные видения, что я совершенно теряю представление о реальности. Я неподвижно сижу за партой, а когда прихожу в себя, с изумлением вижу, что нахожусь в школе».
«Мне больше нравится мечтать, чем сочинять стихи, – пишет другая девушка, – рассказывать себе какую-нибудь красивую сказку без начала и конца, придумывать легенду, любуясь при свете звезд горами. Это гораздо приятнее, потому что не так конкретно и дает впечатление покоя, свежести».
Мечтательность может принять болезненную форму, поглотить существование девушки целиком, как в следующем случае [317]:
Мари Б., умная и мечтательная девочка, в период полового созревания, который начался у нее приблизительно в четырнадцатилетнем возрасте, начинает страдать психическим возбуждением и манией величия. «В один прекрасный день она заявляет родителям, что она – королева Испании, принимает величественные позы, заворачивается в гардину, смеется, поет, командует, приказывает». В течение двух лет такое состояние повторяется во время месячных, затем восемь лет она живет нормальной жизнью, но остается глубоко мечтательной, стремится к роскоши, нередко с горечью говорит: «Я – дочь служащего». К двадцати трем годам она становится вялой, с презрением относится к окружающим, вынашивает честолюбивые замыслы. В конце концов она доходит до такого