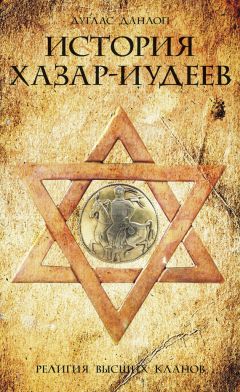И верно: чуть погодя, когда город погрузился в темноту за исключением развалин, которые по рекомендации ЮНЕСКО всю ночь оставались освещенными, подобно Акрополю или крепости Сан-Мало купаясь в золотистом сиянии, достойном памятников старины, затемнение в уцелевших кварталах было столь полным, что на небе проступили звезды, всех ярче — Большая Медведица, и на этом звездном фоне показались истребители-бомбардировщики, сначала они прошли над городом на высоте, потом рев их моторов усилился до пронзительного, это свидетельствовало о первом пике, за ним через несколько секунд (или несколько десятков?) последовало второе, и все завершили два глухих, стало быть, достаточно отдаленных взрыва. Меня до известной степени успокаивало расположение здания отеля прямо напротив храмов, эта подробность внушала чувство защищенности до такой степени, что я задался вопросом, уж не обосновался ли по той же причине в здешних подвалах весь штаб Хезболлы. Но кажется, нет.
Воздушный налет вызвал на пространстве, загроможденном руинами, яростную вспышку лая, приведшую меня к выводу, что развалины стали приютом бродячих собак. Коль скоро этот налет исключал всякую надежду заснуть, я стал изучать при свете зажигалки две репродукции, украшавшие комнату, и убедился, что это ориенталистские и порнографические гравюры Жан-Леона Жерома, напыщенного художника академического направления, чьей единственной стоящей картиной остается та, которую он посвятил казни маршала Нея.
Я спрашиваю себя, как бы изобличал эти гравюры Эдвард Саид, который, насколько известно, в своем знаменитом труде, которого я не читал, вообще не говорит о Жан-Леоне Жероме. И вспоминаю, что это ведь в Бейруте я впервые услышал из уст Искандара упоминание о Кучук-Ханум, тезис относительно ее шалостей с Флобером, описанных этим последним, что, возможно, углубило недоразумение, разделившее Восток и Запад.
В четыре часа утра среди вновь наступившей тишины раздался призыв к молитве, усиленный громкоговорителями и вызвавший среди собак эмоциональное оживление. В жемчужно-сером свете зари, который только-только начинает брезжить, когда погасли прожектора, я скорее угадываю, чем вижу стаю, которая лает, скачет и носится среди руин с таким азартом, будто разыгрывает сцену охоты. Позже, когда время приближается к пяти, солнце еще не взошло, но света уже достаточно, я вижу их ясно, они рыжие, числом семь, они снова и снова без устали носятся взад-вперед по одной и той же дорожке, как на манеже. Если и прерывают свою беготню, то лишь затем, чтобы сцепиться, да так ожесточенно, будто в их семерке есть, по крайней мере, один лишний, которого надо выгнать. И это закончится лишь тогда, когда запоют петухи, зачирикают воробьи и первые лучи солнца коснутся антаблемента шести выстроенных в ряд колонн (в двадцать два метра высотой) храма Юпитера. А на западе, на горизонте, желтой, местами фиолетовой массой уже проступила гора Ливан.
Перед самым отъездом из Баальбека мы покупаем воду и галеты в маленьком супермаркете окраинного квартала, одного из тех, что особенно пострадали при бомбежках. И тем не менее кассир неторопливо, методично считывает сканером штрихкод с упаковки каждого товара. Пока сканер работает, почему бы его не использовать?
На дороге, ведущей к Захле, разбитые машины, руины фабрики «Ливанское молоко», но ни одной коровы не видать. Рекламный щит «Дворец Ка, душа Бекаа». Всюду портреты Сайеда Хассана Насраллы, генерального секретаря Хезболлы, и ее желтые флаги с непременным оттиском изображения автомата Калашникова, обрамленного литерами какой-либо из аббревиатур, имеющих касательство к этой организации.
Никем не охраняемые блокпосты ливанской армии. Кристоф, отвечающий на неуместный телефонный звонок с едва ли не старомодной учтивостью, будто в передней герцогини Германтской (Кристоф из тех типов, что, входя в дверь, готовы уступить вам — то есть любому встречному — дорогу, даже если дома за этой дверью не осталось).
Шофер Хасан, несмотря на воронки и другие препятствия, которыми усеяна дорога, ведет свой старенький красный «мерседес», упирая всем телом в педаль газа, притом то и дело бросает руль, хватает крошечный Коран, засунутый под противосолнечный щиток, и с жаром целует его; тут на его глазах выступают слезы, из чего следует, что он не только о баранке забывает, но уже и дороги не видит (вспоминает о своем недавно умершем отце, тот, верно, погиб при бомбежке). Хасан наверняка самый пылкий сторонник Хезболлы и, может быть, по крайней мере временами, даже боевик этой организации, в остальном же, несомненно, человек редкой чистоты, чья пламенная вера никогда ни на секунду не казалась мне опасной, скорее, напротив, успокаивала (Хасан мог бы оказаться тем самым парнем, что отдает бродячему псу последнюю банку тунца). Наше прощание с ним в Захле не обходится без объятий. Зато при всех моих предпочтениях в пользу христианской религии таксист-маронит, который принял у него эстафету за рулем столь же обшарпанного, но голубого «мерседеса», чтобы везти нас в Бейрут меж хребтов горы Ливан, этот таксист — редкостный идиот, как бы мне ни было горько в том признаться.
«Христьян! М-м-м! — восклицает он и в качестве демонстрации почтения к христианству чмокает кончики собственных пальцев. — Muslim no good! Sale!» Показывая, как ему претят «нехорошие, грязные мусульмане», он морщит нос, будто нюхая вонючую одежонку, прежде чем отшвырнуть ее прочь. Если не считать, что машины у этих двух таксистов одной марки и одинаково ветхие, их единственная общая черта — свойственное как одному, так и другому обыкновение, находясь за рулем, проделывать множество различных манипуляций, не имеющих никакого касательства к управлению автомобилем.
В понедельник 14 августа в Бейруте сотрудники «Аль-Манар», телевизионной программы Хезболлы, организовали пресс-конференцию на развалинах того самого здания на улице Харет-Хрейк, где до войны находилась их студия. Неподалеку от этого места все еще пылала, словно факел, какая-то многоэтажка. Многие дома были разрушены полностью, некоторые, стоявшие с ними рядом, лишились только верхних этажей, третьи высились сверху донизу целые, но у них напрочь срезало одну из стен, так что с улицы можно было видеть оголенную внутренность квартир. Как всегда бывает в разбомбленных жилых кварталах, вся жизнь людей, искрошенная на куски, валялась под ногами заодно со строительным мусором: окаймленные золочеными кистями желтые шторы с рисунком, напоминающим цветки лилии, мини-баллоны с бутаном, видеокассеты и разлохмаченные мотки магнитофонной пленки, ванны, бытовая техника, одежда, флаконы духов, школьные учебники, семейные фотографии, футбольные мячи, цветочные горшки, карманные издания Корана, плюшевые мишки и куклы Барби, — все это, вместе взятое, как нельзя лучше свидетельствует об однородности человечества.
Хотя от этих развалин поднимается едкий дым и пробираться через завалы трудно, не говоря о том, что они, должно быть, нашпигованы неразорвавшимися боеприпасами, многие жители уже вернулись сюда с чемоданами и пустились на поиски своих вещей в надежде что-нибудь спасти. Посреди этого пространства тотальной разрухи и запустения раскинулся во всей красе древовидный гибискус — кажется, ни один его цветок даже не смят. Но самое потрясающее, что сметающие все на своем пути волны разрушения приостановились, докатившись до бульвара Мшаррафьех, впрочем, и бульвар Насраллы выглядит довольно странно: к югу от него — одни развалины, а к северу — вытянулись цепочки на вид совершенно незатронутых зданий.
Пресс-конференция в «Аль-Манар» началась в 11 часов. Две самые популярные молодые ведущие канала уселись под открытым небом среди развалин за маленький садовый столик. На головах у обеих платки, одежда — длинные исламские балахоны в турецком вкусе. Одна — хорошенькая, улыбчивая, к тому же полиглотка, другая хмурая и скорее дурнушка. Все, что они рассказывают о пережитом во время войны, явно согласовано, отредактировано и очищено от каких-либо личных соображений. Покончив с интервью, они переходят к демонстрации тележурнала.
Вечером после выступления Сайеда Насраллы, заявившего, что пока не время складывать оружие, поскольку Хезболла предполагала сделать это согласно резолюции ООН, призванной положить конец войне, — джигитовка среди руин южного предместья, стрельба очередями, трассирующие пули — и вся эта вакханалия ровно в десять вечера прекращается разом, словно по волшебству.
Ярость Шарифа, мрачные предсказания приглашенных.
На следующий день после прекращения огня начинается исход навыворот, на южных дорогах скапливаются пробки, каких не знала история. Мы добираемся до моря в Накура, в тамошнем порту ни души, ни следа какой бы то ни было человеческой деятельности, если не считать желтого двадцатифутового контейнера, изрешеченного прямыми попаданиями. И все это было бы погружено в безмолвие, если бы Махмуд, владелец полноприводного автомобиля, ливанский шиит и житель Детройта, не слушал упорно и сосредоточенно радио «Hyp», голос Хезболлы, канал, транслирующий попеременно то героические песни, то всякую другую звучащую пакость.