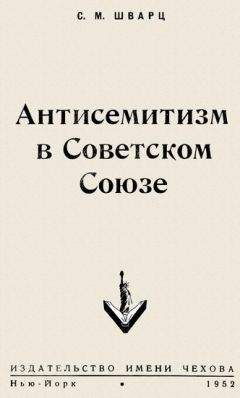Александр Мелихов. Вдохновители и соблазнители. (Попытка эксгумации)
Немецкий экспрессионизм в советском зеркале
Холодная война была выиграна не холодным и не горячим, но незримым оружием, чье имя — соблазн. Мы годами подсматривали за куда более завлекательной жизнью сквозь дырочки и трещинки в железном занавесе, и наша собственная жизнь понемногу начинала представляться все более тусклой и незначительной. Нельзя сказать, что власть этого не понимала, но ведь понимать и находить выход — далеко не одно и то же. Можно было, конечно, зашпаклевать и самомалейшие трещинки, но ведь это означало отсечь себя не только от «буржуазии», но и от так называемых прогрессивных сил, критикующих эту самую «буржуазию». Поэтому советским идеологам приходилось выписывать пропуска к советскому читателю и зрителю хотя бы наиболее крупным художникам, предварительно нейтрализовав те их качества, которые могли ввести советскую публику в соблазн. Луначарский занялся этим нейтрализующим просвещением с первых лет советской власти, штампуя статью за статьей по схеме «Зачем пролетариату Ибсен?» — pro et contra.
В вершинные годы стального сталинизма с подобными тонкостями стали обходиться так же, как и со всякой прочей контрой, но в эпоху Брежнева открылась возможность разглядывать пикантности западной культуры через довольно-таки высокоумные монографии и сборники типа «Модернизм. Анализ и критика основных направлений» (1987), перескакивая через строгие наставления редакторов насчет того, что позиция марксистско-ленинской эстетики по отношению к модернизму едина и не дискуссионна и что модернизм независимо от различия его направлений есть явление кризиса, упадка и разложения культуры современного империалистического общества, явление формалистическое, враждебное гуманизму и реализму, тогда как советскому искусству следует идти проверенным ленинским курсом социалистического реализма.
Сегодня, однако, в год серебряной свадьбы названного сборника с советской интеллигенцией очень поучительно перечитать хотя бы статью А. Тихомирова «Экспрессионизм», обложившись репродукциями и воспоминаниями о подлинниках, которые четверть века назад и не мечталось увидеть. Что ж, статья грамотная — если пропускать обличительные пассажи, то и впрямь можно кое-что узнать.
Все правильно — термин «экспрессионизм» (от латинского «expressio» — выражение) обычно применяется к таким явлениям искусства, «в которых изображение действительности деформируется ради сугубой выразительности в передаче духовного мира художника». Правда, если говорить строго, художники во все времена в той или иной степени жертвовали житейским правдоподобием, чтобы выявить или подчеркнуть какую-то скрытую суть вещей. Вспомним хотя бы удлиненные фигуры Эль Греко, освещенные словно бы вспышкой молнии, да и в Древнем Египте величие земного владыки подчеркивали тем, что изображали его в несколько раз крупнее, чем рядовую плотву. Художественное направление очень редко удается обозначить каким-то признаком, который бы не удалось отыскать за его пределами: в гомеопатических дозах все есть у всех. Надежнее классифицировать, указывая конкретное ядро, а размытую периферию оставляя произволу искусствоведов.
Автор «Экспрессионизма» и называет это ядро — художественные объединения «Мост» и «Синий всадник». Художники этого ядра настаивали прежде всего на том, что творец имеет право на фантазию, на свободное выражение своего внутреннего видения. Но кто и когда отрицал это право? Когда такие банальности перерастают в пламенные декларации, это наводит на догадку, что слишком уж удушающими были, видимо, противоположные, еще более банальные догмы «реалистической» эстетики, полагающей единственную цель искусства в пресловутом подражании природе, в «отражении жизни как она есть». Рассуждения идеологов экспрессионизма неслучайно пересыпаны выпадами против «филистеров и авторитетов», но ведь одними выпадами и манифестами в искусстве не проживешь, без оригинальных творцов, без их творений, способных волновать и потрясать, декларации не стоят почти ничего.
И творцов экспрессионизма «Экспрессионизм» А. Тихомирова перечисляет тоже совершенно правильно.
Группа «Мост» была создана в 1905 году студентами архитектурного факультета Высшего технического училища в Дрездене: Эрнстом Людвигом Кирхнером, Фрицем Блейлем, Эрихом Хеккелем и Карлом Шмидтом-Ротлуффом. В разное время к ней примыкали Эмиль Нольде, Макс Пехштейн и даже бельгиец Ван Донген:
Установка членов группировки на некую варварскую интуитивную непосредственность определяла в некоторой степени общую линию поисков художественного языка. Тяжелые массы цельных неразложенных тонов (отказ от импрессионистической воздушной перспективы), пастозно положенных на крупнозернистые холсты в черных рамах, геометрически упрощенные формы, язык грубой примитивной силы, постоянные оглядки на Средневековье, на крестьянское прикладное искусство и на искусство экзотических стран (Африки, Полинезии), мистическая подоснова — все это, по мысли инициаторов, должно было придать искусству новой группы черты внушительной силы, способной разрушить, снести с арены искусства все, созданное их предшественниками, которых они отвергали. Печать известной тяжеловесной неуклюжести лежала на этих картинах, где предчувствие какого-то ужаса нередко сочеталось с ощущением собственной неполноценности, со стремлением деформировать природные формы, выпятить безобразное, с решимостью дискредитировать и разрушить все, что казалось особенно устойчивым и незыблемым в буржуазном обиходе Германии накануне Первой империалистической войны[1].
Есть или нет в картине «ощущение собственной неполноценности» — это всегда очень субъективно и спорно. Но что к восхвалению силы и грубости нередко склоняются те, кому этих качеств недостает, это, как говорится, медицинский факт. «Предчувствие какого-то ужаса» — такие предчувствия обычно выискиваются задним числом. В картинах экспрессионистов частенько находят еще и прямые предчувствия Первой мировой войны, приписывая им пророческий дар, которого были лишены искушеннейшие политики, не догадывавшиеся о масштабе и сокрушительности подступающих бедствий. Об интеллектуалах и говорить нечего — Герберт Уэллс очень ярко изобразил их умонастроение: «Он вырос в твердой уверенности, сложившейся из общего молчаливого признания, что пушками можно орудовать только в колониях для усмирения дикарей, что войска на параде и боевые корабли на море — ничуть не меньшая формальность и традиция, чем лейб-гвардейцы в Тауэре… А тем временем, думал он, наука движется вперед, средства сообщения и связи улучшаются, и узы взаимосогласия, обеспечивающие благо всему миру, становятся все прочнее и крепче. Он считал, что короли, императоры, государственные деятели и военные власти… знают свое место в этой его высококультурной схеме. А оказалось, что он был просто дураком»[2].
Такими же дураками почувствовали себя многие и многие высококультурные люди: война была страшным ударом по интеллигентской вере в прогресс и разум. Но ведь чтобы ощутить трагизм жизни, совсем необязательно предчувствовать какой-то конкретный ужас. С точки зрения человека XX века, Лермонтов жил в идиллическую эпоху, но еще юношей пророчил «России черный год»: трагической натуре всегда найдется, что предчувствовать. Вместе с тем «деятели культуры», и не малое их количество, встретили войну едва ли не восторженно. Томасу Манну, например, казалось, что Германия защищает культуру против цивилизации: «Культура — это вовсе не противоположность варварства… Культура может включать в себя оракулов, магию, человеческие жертвоприношения, оргиастические культы, инквизицию, процессы ведьм… Цивилизация же — это разум, просвещение, смягчение, упрощение, скептицизм, разложение». В этом смысле Германия воплощала в себе Культуру, а западные демократии — скепсис и дряхлость Цивилизации. «Народная», «глубоко порядочная», «торжественная» — это еще не самые высокопарные эпитеты, которые образованнейший гуманист отыскал для «империалистической бойни».
Тяга к некоей «исконности», «первозданности», «почве», «язык грубой примитивной силы» входят в эстетическое обеспечение почти всех фашистских течений. Но эта же тяга способна рождать таких великолепных художников, как, например, Эмиль Нольде, — «это почвенно-земное начало», как выразился о нем другой знаменитый художник Пауль Клее.
Если судить по портрету его жены Ады, «Весна в комнате», Нольде мог бы существовать вполне благополучно как эпигон импрессионизма, но влечение к искусству Египта, Ассирии, Африки и Океании (а впоследствии к старшим современникам: Ван Гогу, Гогену, Мунку) превратило его в истинно оригинального художника. Сын крестьянина из глухой деревушки, Нольде клеймил растленный город не хуже Василия Белова: «Тут воняет духами, у них вода в мозгах, они живут, пожираемые бациллами, без стыда, как суки». С другой стороны — «материал, краски были для меня как любовь и дружба; и то и другое жаждет принять самую красивую форму».