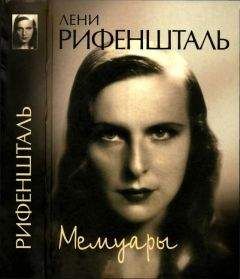В палату вошел врач. Он сказал, что со мной срочно хочет поговорить французский офицер. Я отказалась, в таком состоянии никого не хотелось видеть. Но француз все равно вошел, приблизился к кровати, обнял меня и восхищенно произнес:
— Лени, мой ангел, я счастлив видеть вас!
С изумлением я смотрела на него. Молодой, красивый мужчина назвался Франсуа Жираром, офицером французского фильм-дивизиона.
— Вы что, не знаете, что до вечера следующего дня я обязана покинуть французскую оккупационную зону?
— Да, знаю, — сказал он. — Но вы не должны уезжать, мы не можем вас потерять, не уходите к американцам. Останьтесь с нами.
Это было похоже на бред. Я показала ему документ полковника Андрьё. Он проглядел его и произнес:
— Знаю, это все секретная служба, которая ничего не понимает в кино. Они не ведали, что творили, когда передали вас с «Долиной» американцам. Я представляю своего генерала, главу французского военного командования в Австрии, и здесь по его поручению.
Я растерялась. Кто обладает большими полномочиями — секретная служба или военное командование? Кому верить? На кону стояла моя свобода. Жирар попытался объяснить происходящее:
— Французское военное командование и секретная служба борются между собой. Люди секретной службы — коммунисты, в военном командовании — национал-социалисты.
Я решила посоветоваться с майором Меденбахом и мужем. С помощью врача добралась до телефона. Оба предостерегли меня и сказали, что это может быть ловушкой и что я должна непременно последовать приказу полковника Андрьё. Они обещали забрать меня утром и с помощью двух машин уладить вопрос с переездом.
С облегчением я рассказала обо всем месье Жирару. Он был в отчаянии, обещал содействовать окончанию работ над «Долиной» под защитой военного командования в Париже и в дальнейшем предоставить полную свободу для съемок новых картин. Это было очень соблазнительно, и я сразу же ему поверила. Но решение принято, и уже ничего нельзя было изменить. Тогда Жирар проговорил:
— У нас к вам огромная просьба. Мы знаем, что вы больны, но, пожалуйста, покажите нам «Долину»!
— Зачем же? Фильм еще не закончен и не озвучен. Он существует только в немом рабочем варианте.
— Пожалуйста, доставьте нам радость, мы ваши большие поклонники.
Я позволила себя уговорить. Врач сделал мне еще один обезболивающий укол и вместе с двумя другими французами в униформе мы поехали к дому Зеебихлей.
Здесь случился неприятный эпизод. Когда мы сидели в аппаратной и смотрели «Долину», дверь с грохотом распахнулась. С автоматами в руках вошли двое французских солдат. Они грубо потребовали отдать им фильм Вилли Цильке «Стальной зверь». У меня находился единственный сохранившийся экземпляр этой ленты. Я хотела спасти ее, ведь дирекция Имперской железной дороги, на деньги которой в свое время снимали этот фильм, велела уничтожить все копии и негатив.
Я так и не узнала, откуда французам стало известно, что у меня есть копия «Стального зверя», и почему они решили изъять ее таким грубым способом. Для приехавших со мной офицеров этот инцидент тоже был довольно неприятным, но зато они поняли, почему я хотела как можно быстрее покинуть французскую зону.
Когда на рассвете с помощью матери и некоторых коллег я упаковывала в ящики и чемоданы киноматериал, позвонил муж и сообщил плохую новость: «Мы с майором Меденбахом попали в аварию. Меня немного задело, а вот у Меденбаха серьезные повреждения. Я должен отвезти его в военный госпиталь в Бад-Гаштейне, а через несколько часов заеду за тобой».
Эта новость меня оглушила. Что будет, если не удастся уехать в течение двадцати четырех часов?! С огромным беспокойством ждала я приезда Петера — срок истекал через два часа. Когда муж наконец появился, в нашем распоряжении оставался только час. Мы смогли взять лишь самое важное, материалы «Долины» пришлось оставить. Попрощаться удалось только с французским комендантом Кицбюэля, который, как и месье Жирар, сожалел о моем отъезде.
Уже через несколько минут нас остановил французский патруль и заставил пересесть в их машину. Разрешили взять с собой только одну вещь из ручного багажа. Протесты и мой плач не подействовали. Двое вооруженных французов сопровождали нас. Муж сохранял полное самообладание и пытался успокоить меня. Один из патрульных повернулся и сказал с издевкой на ломаном немецком, обращаясь к Петеру: «Ты тоже отправишься в тюрьму». Его действительно высадили в тюрьме в Инсбруке. Это внезапное расставание на неопределенный срок очень огорчило меня.
Меня привезли в другое, сильно разрушенное от бомбежки, здание. На все вопросы относительно судьбы мужа никто не отвечал. Я оказалась в помещении, где уже находилось много женщин. Большинство из них сидели на корточках на полу, некоторые — на стульях. Я забилась в угол — колики не заставили себя долго ждать. Какое-то время лежала на полу, свернувшись калачиком, пытаясь скрыть судороги. Тут рядом раздались голоса.
Какие-то люди наклонились надо мной, потом я потеряла сознание. Придя в себя, обнаружила, что нахожусь в крохотной комнатке. На полу лежал мешок соломы, а передо мной стоял молодой человек в штатском, тюремный врач. Он дал мне несколько таблеток и стакан воды. Затем, упав на мешок, я заснула. Когда же вновь открыла глаза, то попыталась припомнить вчерашний день. Все что произошло после разлучения с мужем, было как в тумане. В камере, где я теперь находилась, кроме мешка с соломой стоял лишь рукомойник.
Я лежала там, безразличная ко всему. Было все равно, что со мной сделают. К еде не притронулась. Только когда вошел врач и поинтересовался моим самочувствием, осмелилась задать ему несколько вопросов: «Где я и почему здесь?»
— Вы находитесь в больничном отделении женской тюрьмы Инсбрука. К сожалению, пока лучшего места у нас нет. Увы, но я всего лишь тюремный врач. Если я вам понадоблюсь, меня зовут доктор Линднер.
— То, что меня сюда привезли, это ошибка, — сказала я.
Доктор перебил:
— Мы в любом случае не можем повлиять на порядки, установленные оккупационными силами. Сюда вас доставили по приказу сверху и поручению секретной службы.
— А мой муж? Что с ним?
Врач пожал плечами. За ним стоял французский часовой.
— Пойдемте, — сказал Линднер. — Туалета в вашей камере нет. Привыкайте к тому, что туда вас будет сопровождать часовой.
Думаю, прошло примерно две или три недели, прежде чем часовой на мгновение оставил меня с доктором одну. Я попросила сообщить майору Меденбаху, что мой муж в тюрьме Инсбрука. Он кивнул. Уже через несколько дней дверь камеры приоткрылась, и в проеме появился Меденбах.
Он произнес:
— Лени, Петера я могу забрать из тюрьмы, а тебя пока нет, но потерпи — ты тоже скоро отсюда выйдешь. К несчастью, я должен завтра уехать обратно в Америку. У Петера есть мой адрес, мы не потеряем друг друга. Будь храброй. Прощай.
Какое счастье! По крайней мере, Петер на свободе.
Из всех моих злоключений послевоенного времени, пребывание в тюрьме Инсбрука относится к самым мрачным. Мне не разрешали выходить из камеры, если не считать визитов в туалет. Уже ни на что не надеясь, я лежала в полузабытьи на соломенном матрасе. Связи с другими арестованными не было. Помимо врача, который появлялся непременно в сопровождении часового, существовал еще и тюремный надзиратель, приносивший в камеру еду. Он был единственным, с кем я могла немного поговорить. Мужчина «без определенного возраста», уродливый, с оттопыренными ушами и странно замутненным взглядом. Его маленькие серые глазки не выражали ничего. Этот человек всегда таращился на меня, когда приносил еду. Однажды он сказал:
— Сегодня опять еще один выпрыгнул из окна, известный актер из Вены. Это уже третий.
— Вы знаете его имя? — спросила я, вынырнув из забытья.
Надзиратель только пожал плечами.
Как-то я сказала ему, что хотела бы умереть. Не могла больше выносить боли, моя воля к жизни была сломлена. Тогда тюремщик тихонько принес мне в камеру брошюру, в которой подробно описывались все виды самоубийства. Я прочитала, что если табак или сигареты долгое время продержать в алкоголе, то образуется вещество, которым можно отравиться. Но у меня не было ни табака, ни спирта. Желание умереть росло с каждым днем, и я умоляла надзирателя помочь мне в этом. Он сообщил, что шкаф, где хранились яды, иногда оставляют открытым. Награда, которую он попросил за свою жуткую услугу, была поистине гротескна, только душевнобольной мог додуматься до такого. С серьезным выражением лица тюремщик произнес:
— Я принесу вам яд, только если, перед тем как его проглотить, вы станцуете со мной танго.
Эта бредовая просьба как будто заставила меня очнуться. Захотелось позвать врача, но голос отказал мне. В это мгновение в камере появились трое мужчин, одетых в темную форму и стальные каски. Они подошли к постели и потребовали подписать какую-то бумагу, причем один из них произнес что-то по-французски. Я ничего не понимала и не могла спросить, что надо подписать. Мне вложили карандаш в руку, поддержали за спину и указали на место внизу бумаги, где следовало поставить подпись. После этого я вновь осталась одна. Что это за документ — смертный приговор или прошение о помиловании? В полузабытьи меня будто парализовало, и вскоре я заснула.