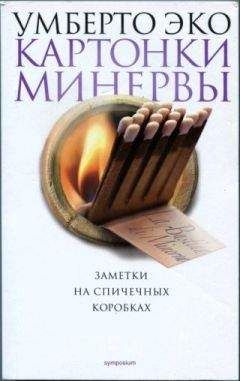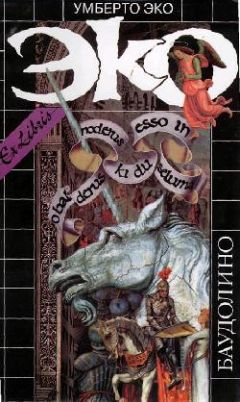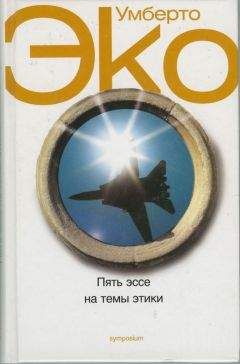Кто были эти солдаты? Некоторые из них, снова посланные на фронт, оказались в числе шестисот тысяч погибших на той войне. Я хочу сказать, что это были хорошие ребята, такие же, как мы с вами, которые до этого и после этого вели себя как полагается по уставу. Но война — это страшный зверь, который выбивает из человека всякое нравственное чувство, и мы знаем немало примеров в истории, когда воители, обычно благородные, опускались до мародерства и насилия. Мой отец рассказывал эту историю с ужасом, но я не чувствую себя вправе судить этих солдат — ведь я никогда не отступал из-под Капоретто.
Я вспоминаю об этих вещах в те дни, когда кое-кто, приурочивая к определенным датам, снова вытаскивает на свет обвинения в адрес Сопротивления. Как обычно, показывая, какие тогда совершались гадости и жестокости. Но это естественно. Невозможно было требовать здравомыслия и самоконтроля от людей, которых могли расстрелять в любую минуту, собранных наспех в отряды, где в любом бойце (как всегда бывает в гражданской войне) подозревали предателя, соглашателя, а некоторые оказывались в отряде только потому, что они жили по эту сторону холма, — а живи они по другую, то охотно бы отдались на милость Социальной республики[59]. Где большинство (и бывший партизан Джорджо Бокка[60] подтвердил это) были идеалистами, следовавшими собственным понятиями о чести; а другие — разуверившимися авантюристами, норовящими урвать кусок. Я был тогда мальчишкой[61] и помню и тех и других — и с обеих сторон; уверяю вас, разуверившихся было очень легко вычислить, и часто они меняли лагерь с необыкновенной легкостью.
Раз уж любая война, и в первую очередь войны гражданские, провоцирует подобные коллизии и перегибы, в чем состоит задача историка, которому подобные вещи хорошо известны? Разумеется, историк — это тот, кто собирает документы, даже самые незначительные, и его работа — обнаружить в архиве, что конкретно совершил конкретный Некто в тот или иной момент. Но если историк ограничится только этим — он просто собиратель оброненных кусочков прошлого, крохобор от истории. Историк — это тот, кто старается потом собрать эти данные в более общую мозаику и поместить событие в широкую перспективу, определяя его причины, воздействие на будущее, и вынести суждение «с исторический точки зрения». Одно дело — знать, что во время Французской революции кто-то донес на своего кредитора и добился его гильотинирования, а другое — исторически оценивать ее смысл.
В общем, мне кажется, что в этих периодически возникающих спорах прошлое используется так же, как в журналистике используется настоящее. Оно не может быть показано иначе как фрагментами, частностями, — но порою частный случай неявно производится в пример, и суждение на основании такого примера — неправомочно, но неотвратимо — становится суждением по поводу исторического периода, группы людей или общества.
Конечно, сейчас лето и нужно идти на ухищрения, чтобы привлечь внимание читателей. Но тот большой, мрачный, отталкивающий и постоянно напоминающий о себе период, в который Италия вступила в сентябре 1943 года, требует большей широты взгляда и большего сострадания.
1993
Тема: «Почему в ваших ежедневных молитвах вы не забываете короля, дуче и отчизну?» Ее раскрытие: «В моих молитвах я поминаю дуче… потому что Он дает первый толчок любому делу… Он командовал походом на Рим[62], прогнал из Италии всех заговорщиков и сделал могучей, грозной, прекрасной и великой». Кто автор этих размышлений, получивших первую премию на Агоне Культуры XVIII года Фашистской эры?
А кто написал вот эти, отмеченные на общегосударственных Молодежных играх XX года (1942)? «Вот по пыльной дороге марширует колонна детей. Это балиллы[63] идут гордой поступью под теплым солнцем нарождающейся весны, дисциплинированно маршируют, исполняя краткие команды своих начальников; это юноши, которые в двадцать лет оставят перо, дабы взять оружие и оборонять родину от неприятельских козней. Эти балиллы, шествующие по улицам в субботу, станут верными и неподкупными хранителями Италии и нового итальянского общества. Кто подумает, видя этих веселых и вечно шутливых юношей, что через несколько лет они, может быть, погибнут на поле боя с именем Италии на устах? Я твердо убежден: когда вырасту, стану солдатом, стану сражаться, и если Италии понадобится моя жизнь — отдам ее во имя нового, героического, священного общества. Воодушевляясь памятью нетленной славы, гордясь победами сегодняшнего дня и веря в будущие свершения, которые суждено совершить балиллам, наша современная молодежь — завтрашние солдаты — пойдет с Италией по ее славному пути к крылатым победам»[64].
Здесь вы вправе ожидать подтверждения своих худших предчувствий: автором этих текстов был Черный рыцарь (а мне, бесстыдному писаке, перепал солидный куш от Красного инженера[65]). Так вот — нет. Автор этих текстов — я в возрасте восьми и десяти лет соответственно.
На самом деле я прекрасно помню, как, сочиняя эти тексты, спрашивал себя, действительно ли я в это верю. Помнится, я задавался вопросом: «Я правда люблю дуче? Тогда почему же я на самом деле не вспоминаю его в своих молитвах? Может, я просто лживый и бесчувственный мальчик?» Но раскрывал эти темы как полагается — и не из цинизма, но потому, что дети по природе своей податливы. Они шалят, но принимают — и подтверждают, что принимают, — лучшие принципы, которые внушают им окружающие.
Тогда школьной формой гордились так же, как сейчас мечтают о модном ранце. Чтобы быть как другие, пользоваться почетом и уважением. Тогда я не был циничным, это сейчас я циник, и я полагаю, что многие дети, которые пишут прекрасные сочинения в защиту своих черных братьев, делают это потому, что понимают: этим можно добиться одобрения общества. Конечно, я не до такой степени циничен, чтобы верить, будто все они завтра начнут громить неграждан Евросоюза. Неправда ведь, что все бывшие шестидесятники готовы голосовать за Фини[66] (только некоторые). И я могу различить то социальное давление, которое побуждает ребенка уважать различия, и то, что побуждало его стрелять в абиссинцев[67].
Но именно понимая, что сейчас лучше, я не могу простить тех, кто отравил мое детство, пытаясь вбить мне в голову прославление смерти. К счастью, эта попытка сопровождалась такой гротескной риторикой, что я быстро избавился от этой безумной жажды Холокоста.
Но только ли дети податливы по натуре? Не таков ли восемнадцатилетний выпускник, которому на экзамене предлагают раскрыть тему «Мировая скорбь и гражданская лирика у Леопарди». Чтобы добиться признания, он, даже если Леопарди кажется ему просто малахольным горбуном, брезгливо наморщит нос и, не мудрствуя лукаво, раскроет все, что надо.
Взрослые тоже умеют брезгливо морщить нос. Разумеется, те, кто считает себя последователями «новых правых», хотят гарантий «умеренности» и не мечтают о возвращении «проклятого двадцатилетия» муссолиниевского правления. Я убежден, что Берлускони на самом деле вовсе не желает впрыгнуть однажды в черной рубашке в круг факелов (в этом случае он должен будет яростно выкликнуть: «В костер Рутелли!»[68]) Приходится отринуть Миф о Человеке, дававшем первый толчок, и довольствоваться его более спокойной внучкой (чья зачетка не позволяет ей давать первотолчок даже клистиру[69]) или тем, кто предложит новый способ давать первый толчок. Это признак возврата к младенческому состоянию, — такие поиски спасителя, который защитит от торжествующей смуты и который снова покажет большим и малым, что такое «здоровые» чувства.
1993
Несколько веских причин, чтобы бросить бомбу
За последние десять дней чего мы только не наслушались: что бомбы бросает мафия, «вооруженная фаланга», коварные спецслужбы, те, кто желает дестабилизации обстановки, и, наоборот, те, кто желает ее стабилизации… Но при этом даже технические эксперты не могут сказать ничего внятного и определенного, у нас есть только какие-то предположения, которые претендуют на то, чтобы стать методом решения загадки в целом.
Одним из первейших критериев в каждом расследовании является критерий экономии: рассматривая несколько различных феноменов, всегда надо пытаться — если между ними можно отыскать какое-то подобие — свести их к одной и той же причине. Если в течение достаточно короткого промежутка времени в Лондоне убивают дюжину проституток, причем одним и тем же способом, естественно, что начинают разыскивать одного виновника, которому присваивают имя «Джек-Потрошитель».
Но критерий экономии не всегда оправдан: в конце концов, Джек так никогда и не был найден, и кто может исключать, что виновников на самом деле не было больше одного и что они не действовали, вдохновляясь один другим? Мольеровские медики были уверены, что в состоянии свести разные болезни к одной и той же причине — неуравновешенности жидкостей в организме, и лечили все кровопусканием, однако они ошибались, и больные умирали.