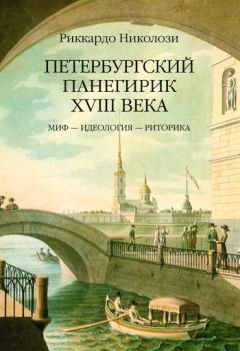Содержанием этого первособытия является космогоническая деятельность Петра I. Изгнание первобытного хаоса и сотворение космоса циклически повторяются тогда, когда законный монарх становится его преемником и смещает незаконное регентство, наделяемое чертами природного хаоса. Но поскольку панегирик восхваляет теперь и здесь и его аксиология обосновывает исключительно актуальный режим власти, каждый царь / каждая царица после Петра Великого – в зависимости от рассматриваемого времени – может олицетворять как повторение первособытия, так и мифологическое состояние предкосмогонии. Так, например, после восшествия на престол Елизаветы, повторившей «первособытие», регентство Анны Иоанновны изображалось в панегирике как время предкосмогонического «мрака», хотя, будучи у власти, она прославлялась как преемница дела Петра.
Петербург в 1704 году. Гравюра П. Пикарта. 1715 г.
Не следует, впрочем, рассматривать цикличность временной концепции в панегирике как постоянный повтор некой схемы в чистой форме, поскольку мифологическая радикализация оппозиции двух сменяющих друг друга режимов власти не всегда проявляется одинаково. Вышеописанное повторение космогонии относится особенно к изображению перехода власти от Анны Иоанновны к Елизавете и от Петра III к Екатерине II и обусловлено конкретной исторической данностью, то есть тем фактом, что как Анна Иоанновна, так и Петр III вели политику, считавшуюся антирусской, опираясь на поддержку «немцев» (то есть иностранцев вообще). Каждый из полюсов – космос и хаос – вбирает в себя, таким образом, целый ряд бинарных оппозиций: русскость – нерусскость, наследие Петра – отказ от наследия Петра, покровительство Бога – немилость Бога.
2.3. Оппозиция prius – nunc в панегирике
Антитеза между узурпацией и реставрацией, радикальное противопоставление актуального режима власти предыдущему представляет собой, как известно, типичный прием, появившийся в панегирике не позднее времени Плиния Младшего, его похвальной речи Траяну. Топическим здесь является прежде всего оформление оппозиции prius – nunc космической природной метафорикой: например, у Клавдиана («Панегирик на шестое консульство Гонория Августа») преступления против государства равнозначны преступлениям против природы, а реставрация законной власти означает восстановление космического порядка. Аналогичным образом панегирик Эразма Роттердамского Филиппу Красивому («Iliustrissimo principi Philippo…») строится на оппозиции отсутствие властителя – возврат властителя, метафорически моделируемой как оппозиция между зимой и летом, ночью и днем, мраком и светом[141].
Фонтанка у Летнего сада. Гравюра Г. А Качалова по рисунку М. И. Махаева. Середина XVIII в.
Поскольку же панегирик всегда представляет собой еще и политическую речь и прочно закреплен в историческом контексте, топическая схема не просто повторяется в русской оде – она, скорее, структурирует отражающееся в ней конкретное (господствующее) идеологическое мировоззрение. Узурпаторская власть (описываемая как мрак) наделяется чертами предкосмогонического хаоса, грозящего разрушить петербургский космос – синекдоху петровской России – наводнением, подобным Всемирному потопу.
Зимний дворец и подъемный мост через Зимнюю канавку. Гравюра Е. Виниградова по рисунку М. И. Махаева. Середина XVIII в.
Временная концепция циклически повторяющегося первособытия (архе) не единственная в панегирике. Одновременно можно проследить, в частности, диахроническую эволюцию распада сакрального пространства Петербурга и нарастающей угрозы хаотических стихий, которая будет обрисована в дальнейшем.
Морской рынок у Адмиралтейства. Рисунок Х. Марселиуса. 1725 г.
2.4. Петровский панегирик
Эпоха Петра – единственная, когда хаос не угрожает сотворенному царем-демиургом космосу. Атрибуты священного городского пространства подчеркиваются посредством сопоставления и отождествления с сакральным пространством par excellence – Небесным, Вторым Иерусалимом. Гавриил Бужинский нарочито использует в «Слове в похвалу Санктпетербурга» метафорический потенциал этого сопоставления, цитируя – как уже упоминалось выше (см. 1.3) – места из пророка Исайи, в которых Новый Иерусалим славится как земля, обитаемая Богом и потому не «пустая».
Прочность и неуязвимая «целость», обоснованные зиждущемся на Христе присутствием Петра I, – вот те качества, которые петровский панегирик приписывает всей Российской империи. Так, по утверждению Стефана Яворского:
Блаженною тя и преблаженною нареку, тривенечная держава российская, Сионе, благочестием сияющий, храме, десницею вышняго Архитектора созданный, егда имаши во основании своем каменя, – в первых убо каменя Христа, на нем же верою православною утверждаешися; потом же каменя именем и истиною Петра, нынешняго всеавгустейшаго Монарха и всероссийскаго Повелителя, на нем же, аки на недвижимом камени, целость твоя пребывает невредима. А что успеют ветри – устремления вражия? Что возмогут шумящия волны? Что лукавых наветов свирепая треволнения? Вся сия при Божией помощи разразишася, елижды приразишася, и еще разражатся, аще приражатся, по неложному словеси Христову: сниде дождь, и приидоша реки, и возвеяша ветри, и нападоша на храмину, и не падеся: основана бо бе на камени [Стефан Яворский 1706: 142].
Здесь в очередной раз отчетливо проявляется взаимозаменяемость Петербурга и России как объектов прославления в петровской ораторике. Посредством топической метафоры – отождествления Петра I с апостолом Петром, опирающейся на евангельское сравнение Петра с «камнем» (petra), будущей основой церкви Христовой (Мф. 16: 18), Яворский символически изображает незыблемость российской власти. Бужинский применяет вслед за ним аналогичный прием, говоря о Петербурге: «Камень же Град сеи на твердом камени Благочести основанныи» [Гавриил Бужинский 1717: 11]. Интересно, как Яворский формулирует идею святости России: Российская империя – это Сион, воздвигнутый Богом храм: сакральность охраняет ее и является залогом ее цельности, поэтому природный хаос не может ей навредить.
2.5. Классицистическая ода
В одической традиции XVIII в. апокалиптические мотивы, связанные с Петербургом, появляются особенно тогда, когда режим власти, воспринимаемый a posteriori как незаконный, грозится ввергнуть Россию в пучину гибели. Ибо единственная сила, способная контролировать природный хаос и обеспечивать незыблемость «островка космоса», – это истинный царь, или истинная царица[142].
Торжественный ввод в Петербург взятых в плен шведских кораблей. 1714 г. Гравюра Г. де Вита по рисунку П. Пикарта
Это касается в особенности – как уже говорилось – изображения перехода власти от Анны Иоанновны и Петра III соответственно к Елизавете и Екатерине II.
В «Оде на день восшествия на престол Елизаветы Петровны 1746 года» Ломоносов, изображая захват власти Елизаветой, использует космогоническую метафорику тьмы и света:
Но бог <…> Видя в мраке ту [Россию] глубоком,
Со властью рек: да будет свет.
И бысть! О твари обладатель!
Ты паки света нам создатель,
Что взвел на трон Елисавет.
[Ломоносов 1746: 106–107]
Власть Анны Иоанновны – тьма, изгоняемая новой царицей. Этот новокосмогонический образ дополняется следующей строфой:
Нам в оном ужасе казалось,
Что море в ярости своей
С пределами небес сражалось,
Земля стенала от зыбей,
Что вихри в вихри ударялись,
И тучи с тучами спирались,
И устремлялся гром на гром,
И что надуты вод громады
Текли покрыть пространны грады,
Сравнять хребты гор с влажным дном.
[Там же]
Таким образом, время бироновщины представляет собой серьезную опасность возврата первоначального хаоса. Эта опасность конкретизируется при помощи образа водных потоков, грозящихся затопить «грады» и вернуть суше ее предкосмогоническое состояние («влажное дно»). Здесь содержится явный намек на Петербург, который в очередной раз синекдотически олицетворяет всю Россию[143].
Подобным же образом Сумароков изображает восшествие на престол Елизаветы:
Тобою правда днесь сияет
И милосердие цветет <…>
Ты буре повелела стать
И тишину установила,
Когда волна брега ломила
И возвратила ветры вспять.
[Сумароков 1743: 62]
Елизавета изображается как сила, прогоняющая природный хаос за пределы космоса, чтобы предотвратить разрушение его наводнением («волна брега ломила»)[144].
М. В. Ломоносов. Акварельный портрет середины XIX в.