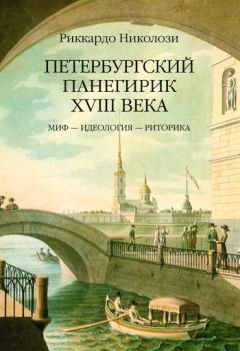10
О литературном мифе Петербурга в целом см., в частности: [Анциферов 1924 и 1991; Lo Gatto 1991; Holthusen 1973; Долгополов 1977; Monas 1984; Топоров 1995].
Немногочисленные работы, посвященные образу Петербурга в XVIII столетии, не выходят, как правило, за рамки неполного, скупо и необъективно прокомментированного собрания материалов. См. также посвященную Москве монографию Г. Циглер – [Ziegler 1974]; кроме того [Poczynajlo 1976, Monas 1988 и Автухович 1995].
См., например, [Анциферов 1991: 58]: «Все, что было сделано до певца Медного Всадника, является лишь отдельными изображениями скорее идеи Северной Пальмиры, чем ее реального бытия»; «Петербургская тема в литературе XVIII в. – первой четверти XIX в., строго говоря, к петербургскому тексту не относится, хотя ее разработки <…> были учтены в петербургском тексте» [Топоров 1995: 335]. В этих характеристиках петербургский панегирик предстает не более чем литературным хаосом, который был оформлен и «приведен в порядок» Пушкиным в поэме «Медный всадник»: Пушкин, согласно общему тезису, повторяет на метапоэтическом уровне изображенный им самим в тексте творческий акт Петра I, в том смысле, что он основал город как текст.
См.: [Анциферов 1991]. См. того же автора «Петербург Достоевского» (1923) и «Быль и миф Петербурга» (1924).
В нем участвовали, наряду с Анциферовым, А. Н. Бенуа, В. Я. Курбатов, П. Н. Столпянский и др.
См.: [Анциферов 1991: 173].
Здесь Анциферов пользуется выражением Герцена, употребившего в очерке «Venezia la Ье11а» (вошедшем позднее в «Былое и думы») аналогичную метафору [Там же: 28].
См.: [Там же: 48].
Идею Анциферова о влиянии литературы на душу города подхватывает и развивает (не слишком оригинальным образом) Э. Ло Гатто в книге «Il mito di Pietroburgo» (первое издание – 1960 г.); эта книга поспособствовала проникновению данной идеи в западные исследования о Петербурге.
Здесь речь идет о расширенном варианте одноименной статьи, опубликованной в сборнике «Семиотика города и городской культуры. Петербург»
(Тарту, 1984).
Топоров противоречит сам себе, объявляя, с одной стороны, петербургский текст завершенным – Вагинов, по его словам, «закрыватель темы Петербурга» [Топоров 1995: 277], с другой же стороны, допуская возможность его продолжения [Там же: 355].
Это напоминает структуру сказки с ее вариантами: Лахманн указывает на «Морфологию волшебной сказки» В. Проппа как возможный образец для концепции петербургского текста Топорова [Lachmann 2000: 233].
«Петербург имплицирует свои собственные описания» [Топоров 1995: 278].
Топоров [1995, 275 и в др. местах] говорит во втором случае об «эсхатологическом» мифе; и все же речь здесь идет об апокалиптике, а не эсхатологии, так как представление о гибели города не связано напрямую с мыслью о спасении. Эсхатологической же является, как уже было указано, основная семантика всего петербургского текста. Об отношении эсхатологии и апокалиптики см.: [Hermann 1999: 29–33].
Согласно пространственно-семиотической типологии города Ю. Лотмана [Лотман 1984], Петербург следует рассматривать как пример «эксцентрического» города. В противоположность типу «города-храма», расположенного концентрически, часто воздвигнутого на горе, считающегося центром мира и изоморфного государству – примерами таких городов являются Рим, Иерусалим, Москва, – Петербург (как и Константинополь) актуализирует не оппозицию «небо – земля», а оппозицию «природа – культура» («естественное – искусственное» [Там же: 31]. Петербург, как микрокосмос на грани культурного пространства, пребывает в мифологически вечной борьбе с не посредственно граничащим с ним природным хаосом (см. главу II).
«Петербург как великий город оказывается не результатом победы, полного торжества культуры над природой, а местом, где воплощается, разыгрывается, реализуется двоевластие природы и культуры» [Топоров 1991: 289]. Здесь Топоров развивает идею Анциферова.
См., например: [Shapovalov 1988; Амусин 1998; Маркович 1998; Kissel 1999 и др.]. Ср. также попытки применения концепции городского текста кМоскве, однако скорее в культурологическом смысле [Пермяков 1997: 483–835; Кнабе 1998].
См. [Lachmann 2000: 246]: «Кажется, что Гоголь в Римском отрывке пытается отойти от своей поэтики мира как видимости и притворства и писать текст, не содержащий более намека на то, что за ним кроется нечто иное (в силу чего вскрывается мнимость изображаемого), а сравнимый с той пронизанной солнцем архитектурой в ее несказанной красоте, которую он описывает, говорящий обо всем с ясностью и не допускающий двусмысленности. <…> Если Петербург олицетворяет фантазм, то Рим олицетворяет анти-фантазм». Тут напрашивается вопрос, не является ли Римский отрывок Гоголя продолжением потенциального Римского текста: так, Гете пишет о Риме как о городе, в котором история заявляет о себе на каждом шагу, и о духовном возрождении, вызываемом этим ощущением (см. Гете, «Итальянские путешествия», «Запись от 3 декабря 1786 г.»).
Концепция петербургского текста явно восходит к более ранним штудиям Топорова, посвященным творчеству Достоевского, см. в особенности [Топоров 1973].
Топоров до некоторой степени вписывает сам себя в петербургский текст: москвич лучше других может расшифровать Петербург и тем самым лишний раз обосновать петербургский текст, ведь обыкновенно «устами петербургского текста говорила Россия и прежде всего Москва» [Топоров 1995: 278].
См.: [Lausberg 1973: 55; 129–138].
См.: [Hambsch 1996: 1378–1379] со ссылкой на [Drux 1985].
В качестве примера из русской литературы ср. оды в честь восшествия на престол Елизаветы, написанные Ломоносовым не только в 1742 г., но и в 1746, 1747, 1748, 1752 и 1761 гг.
См., например: [Lausberg 1973: 130f.; Matuschek 1994: 1258].
Аристотель проводит различие между «практическим» красноречием,
к которому относятся судебная и совещательная речи, и «торжественным», или эпидейктическим, красноречием, которое ввиду его «бесполезности» занимает в риторической концепции Аристотеля маргинальную позицию (см. об этом: [2гште1ег 1999: 383–385]).
Можно было бы, конечно, утверждать, что аристотелевская оценка эпидейктической речи по-прежнему актуальна, если, например, принять во внимание тот факт, что исследование панегирика поначалу не извлекло почти никакой пользы из возрождения риторики в XX столетии. Правда, «новое» открытие риторики как techne и механизма, регулирующего создание текста, коренящееся, с одной стороны, в формалистской идее о «сделанности» литературы, с другой стороны, в идее Курциуса о общеевропейской, основанной на риторике литературной традиции, выявляет относительный характер романтической эстетики вдохновения, вводя тем самым исторически верный взгляд на поэзию XVII–XVIII вв., которая вместо furor poeticus отдает предпочтение комбинаторике и принципу imitatio – aemulatio; и все же в этом контексте панегирик – хотя бы на первых порах – не смог действительно привлечь к себе внимания. Лишь благодаря появлению новых тенденций в культурологии за последние десятилетия ситуация несколько изменилась. Уже в 70-е гг. многочисленные труды по русской культуре XVIII в. тартуско-московской школы были посвящены исследованию панегирических текстов, продемонстрировав исключительно важную роль, которую они играют в саморепрезентации культуры и в конструировании культурной идентичности. В этом структуралистско-семиотическом контексте подчеркивалась исторически обусловленная функциональность панегирика, особенно од Ломоносова, причем учитывался и его литературно-теоретический аспект (см., например: [Лотман, Успенский 1977, 1982, 1996; Успенский 1994а; Успенский, Живов 1983; Живов 1996b, 2000; Живов, Успенский 1987]). Благодаря постструктуралистскому подходу «нового историзма» (New Historicism), разделяющего веру советской семиотической школы в текстуальность культуры и в значение исторического контекста для интерпретации текстов, панегирик английского Возрождения также становится важным предметом исследований, причем культурология означает здесь одновременно и герменевтический метод «пристального чтения» (close reading) (см., например: [Greenblatt 1994 и Montrose 1994]). Не в последнюю очередь свидетельствует о повышении интереса к панегирику как риторическому жанру изданный недавно объемистый сборник J. Kopperschmidt, H. Schanze «Fest und Festrhetorik. Zu Theorie, Geschichte und Praxis der Epideiktik» (1999).
Как, например в «Panegyricus ad Philippum Austriae ducem» Эразма Роттердамского (1504).