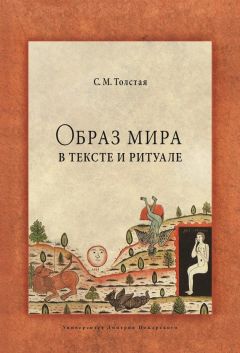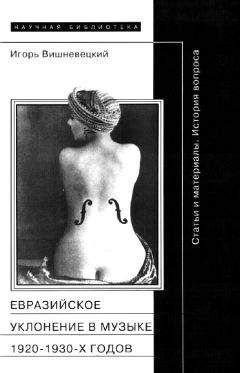События 1914–1918 (1920) годов имели для Двинска предельно катастрофические последствия. Все, что случилось с Двинском, получило отражение в ряде и художественных, и журналистских текстов.
7 сентября 1925 г. в газете «Двинский голос» было опубликовано стихотворение Арсения Формакова «Двинская элегия»:
Приземистый, уездный городок,
Ты только раз привлек меня страданьем,
Когда твоим слепым, умолкшим зданьям
Грозил снарядами и Запад, и Восток.
На улицах трава смеялась звонко,
Заборов не было – повсюду волен путь!
Смущенный пешеход, старик какой-нибудь,
Крестясь от выстрелов, спешил домой сторонкой.
Без роду-племени, не нужный никому,
Ты умирал вне позы и отваги.
Там, над тобой, бойцы скрестили шпаги,
А ты – дремал, зарывшись в глубь и тьму.
Лишенный почестей истории и славы,
Музеев, статуй, парков и дворцов,
Не мог ты ждать, что лица мудрецов
Овеет болью твой конец кровавый,
И молча шел к незримому концу,
Покорный предначертанному свыше,
И слезы горькие по скорбному лицу
Катились все безропотней и тише.
Стихотворение Арсения Формакова, принадлежавшего к двинскому старообрядчеству [его отец Иван Васильевич Формаков, уроженец Режицы (Резекне), играл заметную роль в старообрядческом возрождении в конце 1900 —в 1910-е годы], интересно, по крайней мере, в двух отношениях: в историческом и поведенческо-этическом.
Если взять исторический пласт, то, естественно, имеются в виду события 1914–1918 годов.
Что же произошло? За годы войны город был разрушен едва ли не до основания. В течение 1918 г. он был оккупирован немецкими войсками. В 1919 г. в Латгалии, в том числе и в Двинске, была советская власть. В начале 1920-х годов в результате совместных действий польской и латвийской армии Латгалия отошла к Латвии.
Население Двинска сократилось почти в 6 раз – чуть ли не на сто тысяч человек, в 1918 г. оно составляло меньше 20 тысяч человек[19].
В 1921 г. в рижской газете «Сегодня» известный литератор Петр Пильский опубликовал очерк «Убитые города: Двинск». Вот несколько фрагментов:
«– Погиб наш Двинск! – говорят двинчане. – Нет Двинска…
Потом вздыхают и доканчивают: – И не будет никогда!
И правда: он страшен. Есть что-то зловещее, тяжкое и угрюмое в его черных вечерах, печальное и жалкое в этих безлюдных, напуганных улицах, плачущее и скорбное в безглазых окнах разбитых, издырявленных домов».
«А когда-то и я был здесь, и ходил по его улицам, полным людей, по его цветущим бульварам, отдыхал и радовался на его прелестной Погулянке, этом благословении летнего отдыха, курорте-даче, катался на лодке в ту предрассветную пору, когда разгорающееся, розовое, золотое солнце встает на бледном, нежном небе. Кто-то греб, весло шуршало, звенела песня и пропадала в зеленых зарослях берега; тонкая девушка, о чем-то задумавшись, стояла на корме. Было молодое солнце, и молодой день, и молодая трель песни… Боже мой, как давно и далеко! Мог ли я думать тогда, что все так быстро пройдет и ничего не останется!..»
«Ничего не осталось. Все вымерло. Разбежалось. Рассеялось. Схоронено.
Ходишь по этим примолкшим, испуганным улицам: да – ничего, кроме печали, безнадежности и молчания! Город стал кладбищем. Я шел и думал, шел и читал названия, шел и считал. Вот
– «Дворянская»… 1,2,3,… 98… Девяносто восемь домов! А из них двадцать восемь без окон, без крыш, без дверей, – это полумертвецы, это – еще умирающие. А вот и настоящие покойники. Их целых восемь. Эти уничтожены дотла, до основания,
– стерты. И такой же искалеченной и разбитой понурилась и обвисла «Зеленая». И еще тоскливей, еще страшнее «Шильдеровская». А когда-то она цвела, она росла, она франтила!..
Какой пустынной стала «Шоссейная»! Я насчитал и здесь: 110… Сто десять разрушенных, расколоченных, развороченных домов… Погост. Ничего не осталось и от точного, вычерченного интендантского городка, – ни-че-го!
Куда девался грохот фабрик, неугомонный заводской гул? Примолкли и заводы. Теперь их три. Это все, что осталось от прежних 9…
И т. д. И т. д. Все то же. Все – одинаково. Повсюду прошла смерть.
Везде опустошенность, скорбь и гибель. Солнце закатилось. Ощерилась ночь»[20].
Об опустошенности, запустении Двинска, как и латгальских, а также задвинских, земгальских усадеб, пишут все.
Юрий Галич (Гончаренко), русский генерал и поэт, покончивший с собой в Риге в 1940 г., после вступления советских войск в Латвию, в очерке 1924 г. пишет о Двинске и его окрестностях то же, что и Пильский:
«Динабург – Двинск – сегодня Даугавпилс…
Воистину многострадальный город. Германская война; потом большевики, поляки – все приложило руку, громило, калечило, уничтожало, пытаясь овладеть этим серьезным стратегическим узлом. Нанесенные раны еще не затянулись. Кое-где еще зияют впадины разрушенных домов, чернеют выбитые щели, пустынны улицы, лавчонки, магазины, ряды, заборы, пустыри. Наседка с выводком копошится в песке. Костельный сквер, старуха-нищенка в лохмотьях у ворот <…>. Сейчас здесь мерзость запустения и смертная тоска»[21].
И в описаниях латгальских усадеб благополучное прошлое противопоставляется мучительному современному:
«Проезжая теперь по некогда богатым и благоустроенным усадьбам, поражаешься их оскудению и запущенности.
Блиставшие в былое время чистотой, опрятностью и живописно-кокетливым видом усадьбы теперь наводят уныние разрушающимися дворовыми постройками, облупившимися домами, запущенными садами и обвалившимися заборами.
Когда-то здесь текла привольная барская жизнь»[22].
Очередной раз Двинск отошел к другому государству – к Латвийской республике. Новый статус города был закреплен его переименованием в Даугавпилс. Двинск надломила не только война. Во-первых, в результате происшедших событий была разрушена сложившаяся в конце XIX – начале XX века двинская экономическая система. Ориентированный на Восток, бросавший вызов губернскому Витебску, город был отъединен от Востока государственной границей, благодаря чему утратил не только рынок, но и значение крупного железнодорожного узла.
Во-вторых, произошли значительные демографические изменения. Не только резко сократилось население, но и изменился его этнический состав, точнее, пропорциональная структура. За двадцать лет первой Латвийской республики по сравнению с 1918 г. население выросло более чем вдвое: в 1935 г., по последней переписи той эпохи, в городе проживало 45 тысяч человек, но по сравнению с 1913 г. население уменьшилось в два с половиной раза. Из 45 тысяч 11 тысяч, т. е. 25 %, составляли евреи, 8100, т. е. 18 %, – русские, и это означало, что Даугавпилс за короткое время перестал быть еврейско-русским городом, каким он был в предвоенный год. Впервые за всю историю существования города латышское население стало самым крупным национальным образованием – 15300 человек, т. е. 34%[23].
Но чрезвычайно существенно следующее: и Латгалия в целом, и Даугавпилс в частности, став частью Латвийского государства, курземско-видземской латышской метрополией, воспринимались как глухая и малопривлекательная провинция.
Для коренной Латвии Латгалия была и осталась чужим пространством и по составу населения, и по уровню культуры, и по экономической маломощности. Широкое распространение в Латвии получило унижительное наименование жителя Латгалии – cangals. В 1930 г. в городах Восточной Латвии в среднем проживало около 25 % русских, в Гриве, расположенной по ту сторону Даугавы и впоследствии ставшей частью Даугавпилса, русское население составляло 53,6 %. В сельской местности процент русского населения был несколько выше (Илукстский уезд – 25 %; Даугавпилсский – 28,1 %; Резекненский – 30,6 %; Лудзенский – 34 %; Яунлатгальский – 44,6 %)[24].
Русское население Латгалии было отъединено от остальной Латвии и языковым, и образовательным барьером. Общий процент грамотности среди населения Латвии на 1930 год составлял 86,41 %, среди же русских лишь 62,74 %. Это был самый низкий показатель среди основных национальных групп, проживающих в Латвии. В Латгалии же грамотой владели только 56,44 % русских. «Среди русских горожан численно преобладали рабочие, ремесленники и мелкие торговцы, а процент интеллигенции (по отношению к общей численности меньшинства) у русских был ниже, чем у немцев и евреев»[25].
Латгалия (прежде всего крестьянство) воспринималась и как источник дешевой рабочей силы; широкое распространение получил массовый наем на работу к богатым курземским хозяевам, уезжали семьями, часто в «работники» отправлялись и дети 12–13 лет.
Отрезанная от Востока, не имеющая – в отличие от Видземе и особенно Курземе – выхода к морским торговым путям, Латгалия представляла собой мир социально-экономического, социально-культурного тупика.