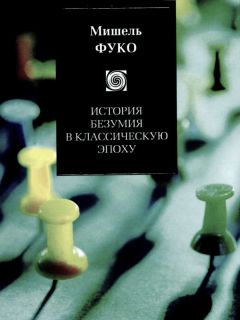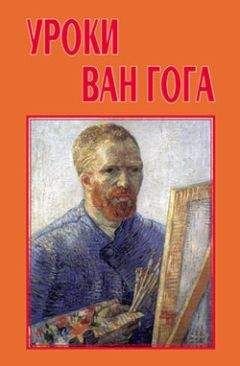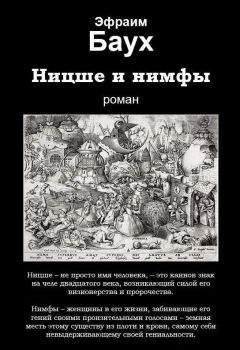Отсюда Кабанис переходит к любопытной (и, по-видимому, наиболее новаторской) идее о необходимости “больничного журнала”. В системе классической изоляции неразумие было обречено на молчание, в самом строгом смысле слова. Мы ничего не знаем о том, что оно собой представляло в течение столь длительного промежутка времени; до нас дошли лишь отдельные загадочные знаки, с помощью которых оно обозначалось в учетных списках изоляторов; его конкретные фигуры, его язык, все это кишащее многообразие бредовых экзистенций для нас утрачено навсегда. Безумие тогда не имело своей памяти, а изоляция была как бы печатью забвения. Отныне же, наоборот, именно она стала тем местом, где безумие словесно выражает свою истину; она призвана фиксировать его параметры в каждый отдельный миг, и только в ней оно обретет тотальный характер и достигнет тем самым точки своего разрешения: “Должно завести специальный журнал, дабы записывать в нем со всем тщанием и точностью картину болезни каждого отдельного человека, действие лекарств, результаты вскрытия трупов. Все лица, находящиеся в данном отделении, будут занесены в него поименно, вследствие чего администрация сможет получить отчет о состоянии каждого из них поименно, неделя за неделей, либо, если сочтет необходимым, даже день за днем”. Таким образом, безумие достигает тех областей истины, до которых никогда не поднималось неразумие: оно вписывается в течение времени, ограждается от тех чисто случайных эпизодов, которые прежде описывались как его различные проявления, и постепенно приобретает в истории собственный облик. Его прошлое, его эволюция становятся составной частью его истины; и обнаруживается оно уже не по тому мгновенному, всегда сиюминутному разрыву с истиной, по которому всегда можно было опознать неразумие. Существует время безумия, причем время календарное — не ритмично-календарное время годичных циклов, сближающее его с тайными силами мира, но то повседневное, человеческое время, каким отмеряется история.
Теперь безумие благодаря изоляции развертывается во всей полноте своей истины, находит свое место во времени хроникальном, историческом, очищается от всего, что может сделать неустранимым подспудное присутствие неразумия, и тем самым, обезоруженное и беззащитное, может без всякой угрозы для других вступать с ними в контакт. Оно становится коммуникабельным — но в нейтральной, объективной, овнешненной форме. Оно снова может существовать публично — уже не в той форме, что вызывала публичный скандал, внезапно и непоправимо опровергая все самое главное в человеке и самое истинное в истине, — а в форме спокойного, мирного объекта, удаленного на известное расстояние, целиком явленного взору и раскрывающего все свои тайны, уже не повергающие в смятение, но поучительные и назидательные. “Конечно же, администрация сочтет, что общий итог сего журнала и наиболее ценные из подробностей его должны принадлежать той самой публике, каковая предоставила для него достойный сожаления материал. Она, конечно, распорядится о печатании его, и если составитель привнесет туда толику философии и медицинских сведений, то сей сборник, доставляющий из года в год новые факты, новые наблюдения, новые и истинные опыты, станет неиссякаемым источником и кладезем богатств для физической и нравственной науки о человеке”34.
Перед нами безумие, явленное взгляду. Таким оно было и в классической изоляции, когда представляло зрелище животного начала; но тогда устремленный на него взгляд был взглядом завороженным — в том смысле, что человек, созерцая столь чуждую ему фигуру безумца, видел в ней зверя, который обитал в нем самом, которого он смутно узнавал как нечто бесконечно близкое себе и бесконечно далекое; присутствие этой нечеловеческой, удаленной на край света из-за своей бредовой чудовищности экзистенции он втайне ощущал в себе самом. Теперь обращенный к безумию взор не отягощен подобной сопричастностью; он направлен на конкретный объект и достигает его только через посредство заранее сформулированной дискурсивной истины; безумец предстает ему в ясном свете абстрактного безумия. И если есть в этом зрелище нечто, касающееся разумного индивидуума, то не потому, что безумие способно опровергнуть его представления о человеке в целом, а потому, что оно может добавить какое-то новое знание о человеке к уже существующему знанию. Оно перестало принадлежать к негативной экзистенциальной сфере, быть одной из ее наиболее резких, грубо очерченных фигур; теперь оно должно постепенно занять свое место в сфере позитивного, среди известных, познанных вещей.
Этот новый взгляд на безумие, взгляд, которому не грозит опасность быть скомпрометированным, уничтожает и решетку, прежде отделявшую его от безумия. Безумец и не-безумец оказываются лицом к лицу. Между ними сохраняется только та дистанция, которая непосредственно охватывается и измеряется взглядом. Но чем более неуловима такая дистанция, тем более она неодолима; на самом деле свобода, полученная безумием в пределах изоляции, возможность обрести в ней некую истину и некий язык, — все это лишь изнанка процесса, в результате которого безумие наделяется определенным статусом в познании: охваченное взглядом другого, оно лишается всех чар, еще совсем недавно делавших его фигурой, узнавание которой было одновременно и заклятием; оно превращается в форму, открытую для взгляда, в вещь, целиком проникнутую языком, в реальность, доступную для познания; оно превращается в объект. Несмотря на то что в новом пространстве изоляции разум и безумие предельно сближены и сосуществуют без барьеров и границ, между ними устанавливается дистанция еще более устрашающая, чем прежде, а их соотношение отныне всегда будет неравным и неравноправным; как бы свободно ни чувствовало себя безумие в мире, обустроенном для него человеком разумным, как бы ни было оно близко его уму и сердцу, отныне оно всегда будет для него не более чем объектом. Уже не вечной угрозой, не изнанкой его существования, но одним из возможных событий во взаимном сцеплении вещей. Став объектом, безумие оказалось обуздано надежнее, чем прежде, когда оно подчинялось неразумию в различных его формах. Изоляция в ее новом обличье может позволить себе роскошь предоставить безумию свободу: теперь оно целиком в ее власти и лишено своих глубинных враждебных сил.
Если бы нам нужно было кратчайшим образом описать всю эту эволюцию, мы, по-видимому, могли бы сказать следующее: отличительной чертой опыта Неразумия является то, что безумие выступало здесь субъектом самого себя; но в рамках того опыта, который оформляется к концу XVIII в., безумие отчуждено по отношению к себе самому и получает статус объекта.
* * *
Кабанис мечтает о том, как безумие в психиатрической лечебнице вынуждено будет погрузиться в дремоту; он стремится исчерпать его до конца, не выходя за пределы этой бестревожной проблематики. Но вот что любопытно: в этот самый момент безумие обретает жизнь вне ее круга и наполняется новым, сугубо конкретным содержанием. Освободившись от всего, что препятствовало его познанию, от всего, чему прежде оно было сопричастно, оно включается в тот ряд вопросов, которые ставит перед собой мораль; оно пронизывает повседневную жизнь, получает выход на простейшие ситуации выбора и принятия решений, создавая условия для первичного, примитивного выбора и принуждая, так сказать, “общественное мнение” пересмотреть всю систему ценностей, имеющих к нему отношение. То высвет-ление, очищение безумия, которого удалось достичь Коломбье, Тенону, Кабанису в результате последовательного, напряженного осмысления, немедленно уравновешивается и компрометируется стихийной, повседневной работой, осуществляющейся на границах сознания. И все же именно здесь, в этом едва уловимом мельтешений крошечных ежедневных опытов, безумие вскоре приобретет то нравственное обличье, в котором его с первого взгляда узнают Пинель и Тьюк.
Дело в том, что с распадом изоляции безумие вновь всплывает на поверхность общественной жизни. Оно появляется словно бы на волне какого-то медленного и незаметного вторжения извне, оно вопрошает судей, вопрошает семьи и всех, кто ответствен за поддержание порядка. В то время как ему подыскивают статус, оно само ставит перед ними насущные, безотлагательные вопросы: прежнее представление о человеке неразумном — производное от понятий семьи, правопорядка, общества, — распадается, и юридический концепт невменяемости приходит в прямое, ничем не опосредованное столкновение с непосредственным опытом безумия. Вот отправная точка долгой работы сознания, в результате которой негативное понятие отчуждения в его правовом определении постепенно будет проникаться теми нравственными значениями, какими наделяет безумие человек в обыденной жизни, и меняться под их воздействием.