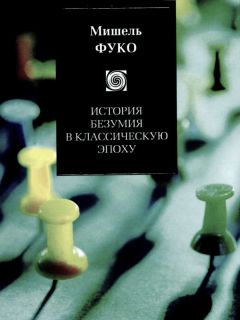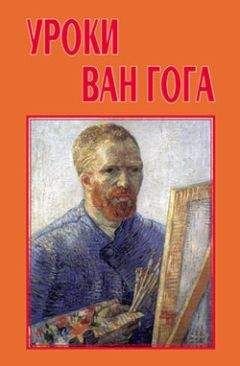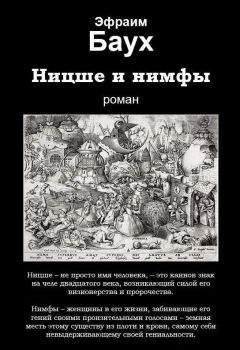Если мы хотим понять, каким образом совершилась эта внезапная мутация, в результате которой за несколько лет на поверхности европейской культуры утвердился новый способ познания и лечения безумия, нам бесполезно задаваться вопросом, что нового было добавлено в это время к уже достигнутому знанию. Мог ли Тьюк, не будучи врачом, или Пинель, не будучи психиатром, обладать более обширными знаниями, чем Тиссо или Куплен? Изменению, причем резкому изменению, подверглось сознание собственного не-безумия — сознание, которое начиная с середины XVIII в. вновь пришло в столкновение со всеми живыми формами безумия в их медленном нарастании и которое вскоре было приостановлено и поколеблено крахом изоляции. В годы, непосредственно предшествующие революции и следующие за ней, произошло неожиданное и внезапное высвобождение именно этого нового сознания.
Мне могут возразить, что явление это чисто негативное; однако при ближайшем рассмотрении оно не таково. Больше того, это первый и единственный позитивный феномен в становлении позитивизма. Действительно, высвобождение это стало возможным лишь благодаря целой системе защитных заграждений, намеченной и выстроенной Коломбье, а за ним — Теноном, Кабанисом, Белларом. Структуры эти оказались столь прочными, что дожили в почти не измененном виде вплоть до наших дней, невзирая даже на исследовательскую работу, проведенную фрейдизмом. В классическую эпоху не быть безумным можно было двояким образом: с одной стороны, существовало непосредственное, повседневное ощущение своего различия с безумием, с другой — система его исключения из общества, в которой оно не выделялось из других угроз и опасностей; таким образом, классическое сознание неразумия было целиком поглощено тем напряжением, что возникало между внутренней, неопровержимой очевидностью восприятия и произвольным, всегда далеким от непогрешимости социальным разграничением. Но когда две эти разновидности опыта слились воедино, когда система социальной защиты оказалась интериоризирована в формах сознания, когда узнавание безумия стало осуществляться в рамках процесса, благодаря которому общество ограждало себя от него и устанавливало дистанцию между ним и собой непосредственно на поверхности своих институтов, — напряжение, характерное для XVIII в., внезапно исчезло. Формы узнавания и структуры безопасности, накладываясь друг на друга, образовали новое и отныне суверенное сознание своего не-безумия. Именно эта возможность представить себе познание безумия и его обуздание вместе, одновременно, как единственный и единый акт осмысления, — именно она составляет самую сердцевину позитивистского опыта душевной болезни. И пока эта возможность, в силу какой-то новой свободы, обретенной знанием, вновь не станет невозможной, безумие останется для нас таким же, каким оно смутно виделось еще Пинелю и Тьюку; оно будет пребывать во власти эпохи позитивизма.
С тех пор безумие перестало быть явлением, вызывающим страх, или бесконечно актуальной темой скептической философии. Оно превратилось в объект, — но в объект с особым статусом. В самом процессе своей объективизации оно становится первой и главной из объективирующих форм — тем, благодаря чему человек может быть объективно властен над самим собой. Когда-то он указывало на вихрь ослепления, уносящий человека, на тот миг, когда свет для него меркнет в непомерно яркой вспышке. Теперь, превратившись в вещь, доступную познанию, — в самую глубокую, внутреннюю, но и самую открытую для взгляда человека его собственную сущность — оно предстает как бы великой структурой человеческой проницаемости;
это отнюдь не означает, что труд познания сделал его совершенно ясным для науки, — просто человек, впавший в безумие, благодаря своему состоянию и тому статусу объекта, который он в нем приобретает, должен, по крайней мере теоретически, сделаться всецело проницаемым для объективного знания. Отнюдь не случайно и не вследствие простого исторического совпадения XIX век, задаваясь вопросом, что есть истина воспоминания, желания и индивидуума, обратился прежде всего к патологии памяти, воли и личности. В самом порядке этой исследовательской деятельности есть какое-то глубокое соответствие структурам, выработанным в конце XVIII в., в которых безумие было первой и главной фигурой объективизации человека.
Таким образом, положение безумия относительно общей тематики позитивного познания человеческого существа всегда неустойчиво: оно является одновременно и объектом, и объективирующей формой, оно открыто для взгляда и таится от него, оно и содержание этого познания, и его условие. Мысль XIX в., да и наша тоже, придает ему статус некоей загадки: несмотря на то что в данный момент его всеобъемлющая истина для нас недостижима, мы не сомневаемся, что в один прекрасный день оно до конца откроет себя познанию. Однако эта уверенность — не более чем теоретический постулат, основанный на забвении важнейших истин. Умолчание, которое мы считаем временным и преходящим, в действительности означает, что безумие укрылось в области, покрывающей всю сферу возможного познания человека и выходящей за ее пределы. Главным условием существования позитивной науки о человеке служит предельно удаленная от человеческого бытия аура безумия, в которой и благодаря которой это бытие получает объективный характер. Безумие неусыпно охраняет главную свою загадку: в неизменном ожидании той формы познания, которая наконец обнимет его все без остатка, оно столь же неизменно ускользает от всякого возможного осмысления, ибо изначально именно оно отдает человека во власть объективного познания. Вероятность для человека стать безумным и возможность превратиться в объект слились в конце XVIII в. и вызвали к жизни одновременно (дата в данном случае далеко не случайна) и постулаты позитивистской психиатрии, и тематику объективного научного познания человека.
Однако у Тенона, у Кабаниса, у Беллара это слияние, имеющее важнейшее значение для современной культуры, происходило пока что чисто умозрительно. Но вскоре, благодаря Пинелю и Тьюку, оно станет конкретной ситуацией: в созданной ими психиатрической лечебнице, послужившей отправной точкой для замыслов великой реформы, угроза оказаться безумным насильственно отождествлялась у каждого человека с необходимостью быть объектом — во всем, вплоть до повседневной жизни. Позитивизм отныне будет не только теоретической программой, но и стигматом отчужденной, сумасшедшей экзистенции. Отныне всякий индивидуум, признанный сумасшедшим, будет принудительно и сразу получать статус объекта; отчуждение сумасшествия окажется той истиной, которая образует сердцевину любого объективного познания человека.
Глава четвертая. РОЖДЕНИЕ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЛЕЧЕБНИЦЫ
Картина этого события общеизвестна. Без нее не обходится ни одна история психиатрии: ее образы призваны проиллюстрировать наступление той блаженной эпохи, когда безумие получает наконец признание и уход, соответствующие его истине, к голосу которой все слишком долго оставались глухи.
“Почтенное Общество квакеров… пожелало обеспечить для тех членов своих, каковые будут иметь несчастье утратить рассудок, не имея достаточного состояния, чтобы искать помощи в дорогостоящих заведениях, возможность пользоваться всеми достижениями врачебного искусства и всеми усладами жизни, совместными с их положением; средства на то собраны были по добровольной подписке, и около двух лет назад неподалеку от города Йорка возникло заведение, которое, как представляется, соединяет в себе многие преимущества со всею возможною хозяйственною экономией. И если поначалу душа приходит на миг в содрогание в виду сей ужасной болезни, словно нарочно созданной для уничижения разума человеческого, то вслед за тем созерцание всего, что изобретено было хитроумным благожелательством человека ради излечения и облегчения ее, навевает нам чувства мирные и приятные.
Дом сей расположен в миле от Йорка, среди плодородных, веселящих взор полей; зрелище его пробуждает в мыслях образ не тюрьмы, но скорее большой деревенской фермы; окружает его обширный, обнесенный оградою сад. Никаких засовов, никаких решеток на окнах”1.
Что же до освобождения сумасшедших в Бисетре, то оно описано в знаменитом рассказе: вот принято решение снять оковы с узников подземелий; госпиталь посещает Кутон, желая убедиться, что в нем не скрывается никаких подозрительных лиц; Пинель отважно выходит ему навстречу, в то время как все дрожат при виде “калеки, которого несут на руках”. Мудрый филантроп и паралитичное чудовище сходятся лицом к лицу. “Пинель немедля препроводил его в отделение для буйных, и зрелище одиночных камер произвело на него тягостное впечатление. Он пожелал лично допросить всех больных. От большинства он не добился ничего, кроме оскорблений и грубых выкриков. Продолжать допрос было бесполезно. Оборотившись к Пинелю, он спросил: “Ты что, гражданин, хочешь спустить с цепи подобных зверей? Уж не сошел ли и ты с ума?” Пинель спокойно отвечал: “Гражданин, я убежден, что сумасшедшие эти столь несговорчивы единственно потому, что их лишают воздуха и свободы”. “Что ж, делай, как знаешь, боюсь только, как бы ты не пал жертвой своих убеждений”. Засим Кутона уносят к его карете. Отъезд его был для всех облегчением; все перевели дух; великий филантроп не мешкая принялся за дело”2.