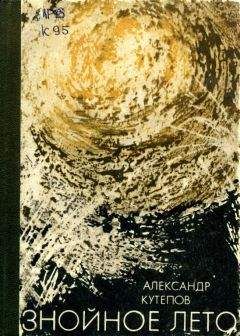К 1828 г., получив высокое посвящение, Пушкин уже образно отразил саму суть «яда» — вселенскую — «Анчар, как грозный часовой, стоит — один во всей вселенной»; соотношением его с «князем» Пушкин почти отождествил царя с «Анчаром», космократора, беспрерывно требующего «яда». Почему же именно в строгом смысле «яда»?
Только в последние годы XX века «ртутные ритуальные отравления стали связывать с эффектом „сверхпроводимости“». Известно и учение о том, что сохранение в «нетлении» тел фараонов (которым в последние годы жизни жрецы тоже медленно давали ртуть) связано с тем, что свою функцию мирового гармонизатора фараон выполняет и после земной жизни, взаимодействуя со своим телом-сверхпроводником. Так что отравить клопомором означало убить человека, а ртутью — причислить его «к богам».
19 октября 1831 г. Пушкин прямо пишет по поводу смерти Дельвига: «Мнится, очередь за мной». Он говорит устами Моцарта: «Представь себе… кого бы? Ну, хоть меня — немного помоложе[33], влюбленного — не слишком, а слегка — с красоткой, или с другом — хоть с тобой — я весел… вдруг: виденье гробовое, внезапный мрак иль что-нибудь такое». Пушкин отдавал себе отчет, хотя и гнал ту мысль, боролся с нею, что «акция», коль будет проведена, то по полной программе. Сальери о Моцарте говорит крайне двусмысленно: «Быть может, новый Гайдн сотворит великое, — и наслажуся им». О судьбе «старого Гайдна» и его головы (как и Моцарта) Пушкин, безусловно, знал или догадывался. У Нащокина Пушкин, пролив на стол масло, испугался и сказал: «Ну, я на свою голову, — ничего».
Умереть в расцвете славы, перед женитьбой, узнав так много? Неудивительно, что из всего творчества Моцарта ввел свою трагедию мелодии именно из его «антисистемных» произведений — «Свадьба Фигаро» и «Дон-Жуан» (строки из оперы Пушкин взял эпиграфом и к «Каменному гостю»). Внутренний диалог Пушкина прорывается в словах Сальери — «Когда великий Глюк явился и открыл нам новые тайны (глубокие, пленительные тайны), не бросил ли я все, что прежде знал, что так любил, чему так жарко верил, и не пошел ли бодро вслед за ним безропотно, как тот, кто заблудился…»
В «Моцарте и Сальери» все борьба: «похоже, я должен умереть, но есть и надежда»; это честь, но я хочу жить; и к тому же — за Александра — «ханжу»?! Я разоблачу его намерения! Я не за страх, а за совесть служу новому царю, я отрекся от оппозиции, от идеалов юности, а тут…. Все смешалось в душе Пушкина, кроме гармонии его стиха.
Но кто же Сальери? Во-первых, это — Учитель. И учитель по ученикам Великий — Шуберт, Бетховен, Лист. И если в реальности внешне дружеские отношения у Сальери и Моцарта возникли как раз в последнее перед смертью время, то у Пушкина подчеркивается, что дружба в трагедии описанная — настоящая и давняя. Этим учителем мог быть лишь один — Жуковский. В. Риттер очень проницательно заметил: «При чтении этой полной контрастов трагедии видно, что трактовка Пушкиным образа „соперника“ не укладывается в рамки одной зависти и противодействия; Сальери, скорее, движим внутренней необходимостью — он убивает Моцарта, ибо у него не другого выбора». У Пушкина проблема еще глубже — движимый внешней необходимостью в самой сердцевине души, не имеет ли «Сальери» и внутренней необходимости[34]? И если здесь сомнения, отбрасываемые и вновь возвращающиеся, то вот отношение к «Третьему» — однозначно. «Мне день и ночь покоя не дает мой черный человек. За мною всюду как тень он гонится. Вот и теперь мне кажется, он с нами сам — третий сидит». Он «третий» — в «Моцарте» как бы персонализируется в образе Бомарше. Пушкинисты заметили, что именно к Бомарше, как к некоему центру, сходятся явные и тайные линии. По легенде, он отравил двух своих жен («Ах, правда ли, Сальери, что Бомарше кого-то отравил?»). И эта фраза как магическая цепь связывает картину в единое целое, перекидывая игру ассоциаций независимо от времени оформления идей к самой саркастической части «политической прозы» Пушкина — «Гробовщику».
Это уже почти памфлет-предупреждение. Жуковскому, например, там было ясно почти каждое «прозрачное» указание. И не ему одному. В «Арзамасе» они так и подписывали свои протоколы — «мы, гробокопатели…». Желтый цвет (шляпки дочерей гробовщика, любая желтизна у Пушкина, — лицо, волосы) имело намек на официальность, на власть. От желтого цвета правительственных зданий в Санкт-Петербурге — «И желтизна правительственных зданий», например у О. Мандельштама. Адриян Прохоров отправляется к «желтом дому». И вообще переезжает. Само имя недвусмысленно наводит на другого Адриана — императора Римской империи в период ее могущества (а Александр после 1812 г. находился в зените славы и влияния в Европе). На высшую власть (а не на власть вообще) указывают и такие «говорящи детали» — красные башмачки двух дочерей Адрияна (а у Александра I официальных было две дочери). Красная обувь когда-то олицетворяла только одного человека — византийского императора, а красные каблуки — аристократию во Франции до 1789. В одной детали Пушкин сказал сразу очень много: и указание, и страстный порыв неприятия человека и его дела. Готлиб Шульц — «немец», который стучится к «франкмасонским стуком» и живет в доме против его, Адрияна, окошек — это шеф Пушкина, министр иностранных дел Нессельроде, ведомство которого и находилось по другую сторону Дворцовой площади.
Очерчивая круг «третьих», Пушкин даже не оставляет без внимания — чухонца Юрко. Дело в том, что «уход императора» и «смерть царицы» получили странное отражение в северной стороне — Швеции, где родная сестра Елизаветы Алексеевны Фредерика была замужем за королем Густавом IV. Так вот, Густав, который родился в один год с Александром (1777), и умирает тогда же в 1825 г., а две сестры (Фредерика на 2 года младше) в следующем 1826. Но главное — это желание Гробовщика, чтобы померла «купчиха Трюхина, которая год уже находилась при смерти» (а в черновике и еще точнее — там Трюхина помирала уже 4-й год — с 1826 г.!).
С. Г. Бочаров в статье «О смысле „Гробовщика“» метко подмечает, что «праздник гробовщика обусловлен смертью живого человека, а пожелание мертвым здоровья (идея пира покойников) есть пожелание смерти живым»[35]. Появившись в мае 1827 г. в Санкт-Петербурге и получив в течение года посвящение в степень, в марте-апреле 1828 г., по заметкам многих, Пушкин испытывал «какое-то странное волнение». Появляется страстное желание увидеть Елизавету Алексеевну. В тот момент и появляется тема «мести». 2 октября 1828 г. Пушкин пишет письмо Елизавете Алексеевне, 16 октября, получив ответ, в ночь на 20 октября покидает столицу. Попытка пробиться зимой в Оптину пустынь ложится в сюжет «Метели». О том, что он смог добраться лишь весной 1829 г., говорит хотя бы такая деталь: «Домик в Коломне» опубликован в 1833 г., написан в октябре 1830 г. в Болдино, но дата публикации поставлена более чем характерная 1829!). В. Узин прекрасно назвал ее — Трюхину — «Пиковой Дамой» Прохорова. Прохоров — Александр — это опасность в потоке сознания Пушкина не только для него, но и для Нее! Пушкин прямо угрожает «во сне» Прохорову отставным сержантом гвардии Петром Петровичем, а за ним нетрудно угадать и «пушкинское», да еще с намеком на «петровские тайны», ведь Ганнибал при крещении получил имя-фамилию по крестному отцу — Петр Петрович Петров. Ну, уж год рождения самого Пушкина — 1799, когда Прохор продал свой первый гроб, ставит все точки над «i». Приближался срок важнейшего цикла — 30-летнего. В марте 1831 г. исполнялось 30-летие правлении живого — Александра I. Это число фигурирует в «Каменном госте», Белкин умирает на 30-м году жизни, 30 строк произносит Моцарт в первой сцене, в «Египетских ночах» импровизатору «казалось лет 30».
Ведь и в «Ночах» Пушкин описывает не страсти человеческие вообще, а их вписанность в ритуал: свои ночи Клеопатра почитала приношением богам, то есть, занималась священной проституцией, выполняла обязательные, особые сакральные церемонии, только в данном случае сочетая еще «приятное с полезным».
Впоследствии египтологи назвали магический ритуал обновления силы царя и природы (а точнее, Космоса) — «Хеб-сед» (как он по-настоящему назывался, не известно). «Овладение Космосом» осуществлялось через 30 лет царствия, а затем в упрощенной форме через каждые три года, но он мог проводиться в кризисные для царства ситуации. Подготовка к Большому ХС[36] занимала иногда несколько лет. Вначале воздвигался «Джед» — колонна, олицетворяющая начало обновления сил природы и царя. «Джед» воздвигался в день праздника воскресения Осириса и вступления на престол сына Гора (число которого — 5). Еще до этого сооружались обелиски, храмы, сфинксы.
При поднятии «Джеда» обязательно присутствовали фараон и вся семья, часто властелин сам тянул за один из канатов. После шли ритуальные бои, пляски и игры. Далее следовал ритуал очищения огнем храма — «освящение головы отца». В основной части ХС — воспроизведение ритуальной смерти царя, его оживление и возвращение ему магической власти над «природой» — Космосом, и восстановление на престоле в качестве нового царя. Вместо царя, без пролития крови (яд, удушение и т. д.) убивали другого. Для основной части ритуала устраивалось особое сооружение, к 4-м сторонам которого вели ступени, названные лестницами Юга, Севера, Востока и Запада. Тело убитого «другого» с атрибутами власти в руках находилось под навесом на возвышении. Преемник убитого совершал перед возвышением особый «священный» бег, показывал свою мощь и силу, и получал из рук своего мертвого «предшественника» символы власти над миром. При беге в этой кульминационной части ХС царь держал в руках предмет, служивший футляром для документа о праве наследовании престола, который он получал «как бы» от статуи царя-предшественника. Важность передачи символов власти от «мумии» предшественника к преемнику нашла продолжение в своеобразном обряде в ритуале посвящения александрийского патриарха, где новый патриарх получает pallium св. Марка из рук своего мертвого предшественника, причем правая рука мертвого патриарха кладется на голову нового, как бы благословляя его.