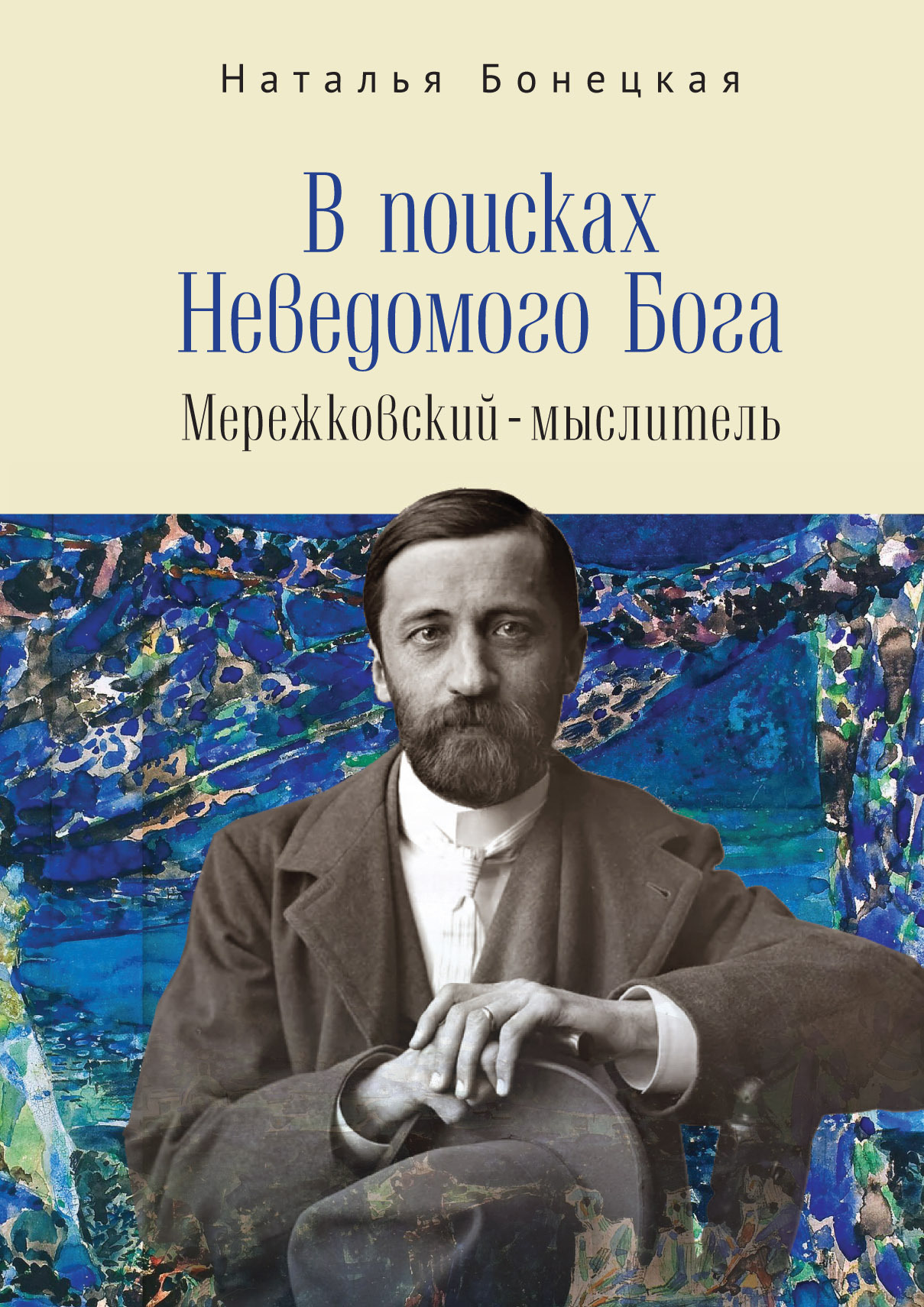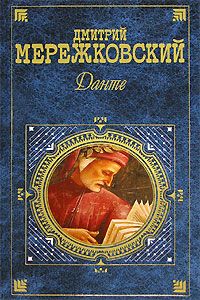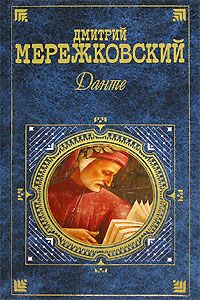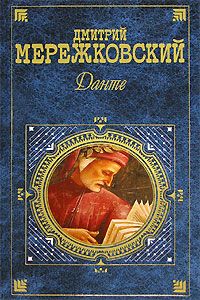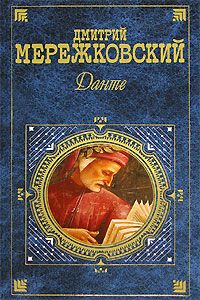class="p1">Там же, с. 133. Против «властолюбия» Мережковских рано или поздно восставали буквально все, кто находился в особенной близости к ним: Антон Карташов пытался в борьбе с догматикой «Нашей Церкви» отстоять сокровище своей любви; Мариэтта Шагинян, питавшая очень сложные чувства к Гиппиус, взорвалась в конце концов против доминирования супругов над собой, – ею попросту манипулировали; наконец Дмитрий Философов – необходимейший
третий в ядре общины, вконец измученный наполовину теоретическими, но все же неподдельно искренними любовными домогательствами 3. Н., бежал от Мережковских – хотел спастись от них в другой стране, в другой деятельности…
Бытийственное возвышение над личностью реальности межличностной характерно и для диалогической философии М. Бахтина. «Диалог» предшествует его участникам, их идеям, – не имея ни начала, ни конца, в диалогической философии он абсолютизируется.
В традиционной экклезиологии Церковь также имеет не человеческий, а божественный исток.
Об ауре одиночества вокруг Мережковского пишут и большинство его мемуаристов.
В середине 1910-х годов возникло русское Антропософское общество, еще более четко оформленное и крепкое образование того же сектантского типа.
Я здесь имею в виду бердяевский экзистенциализм, а не книгу 1911 года.
Не могу не упомянуть здесь столь ценимую мною книгу А. Эткинда «Хлыст», где досконально прослежена (и расценена в качестве доминирующей) хлыстовская тенденция Серебряного века.
«Таинство любви, – sacramentum caritatis, – вот высший мотив для жизни вдвоем, – хотя слово caritas поставлено здесь [у бл. Августина, размышлявшего о проповеди Евангелия апостольскими парами], вероятно, за недостатком более точного латинского обозначения для искренней любви друзей» (Флоренский П. А. Столп и утверждение Истины (I). М., 1990, с. 129). Флоренский, конечно, лукавит, упрекая латынь в бедности выражения оттенков любовного чувства: Августине вполне сознательно говорит о любви-уважении лишенной той страстности, которую Флоренский вкладывал в мужскую дружбу.
В письмах к Розанову Флоренский, как бы самоутверждаясь, признается в своем «сладко болезненном» «интересе к мужчине с точки зрения мужчины же». Он рассуждает о «святой плоти» (термин Мережковского), вовлекая в эти – типичнейшие для Серебряного века – размышления, наряду с «греческой скульптурой», как бы потенцировавшего и сублимировавшего эту языческую плотскость Христа: «Христос есть святая плоть <…>. То, что манит в греческой скульптуре, совсем по-иному, совсем неприводимо рационально к этому, явилось выраженным полностью во Христе». Эту свою сокровенную эротическую тенденцию Флоренский называет «античной школой». Уже в 1909 году – т. е. во время подготовки магистерской богословской диссертации – Флоренский верховные свои идеалы привязывает именно к тем «тайнам» религиозного общения «новых христиан», о которых пишет Бердяев (см. выше). «Сущность же дела, – раскрывает свои «античные» представления Флоренский, – в тесном, до конца связанном чувствами, интересами, научными и жизненными задачами, влюбленностью взаимною [подчеркнуто мной.-Н. Б.]и т. д. и т. д. кружке, замкнувшемся в себе <…>»: чисто сектантская эротическая, с содомским душком, община, описанная Флоренским – уж никак не кружок Новосёлова, но «Наша Церковь» Мережковских! (См. Письма Флоренского к Розанову от 1909. ГУ. 25 и 1909. IV. 19 И Розанов В. В. Литературные изгнанники. М.;СПб.,2010,с. 22, 20 соотв.) О том, что философия любви-филии «Столпа» проистекает из нетрадиционной сексуальной ориентации Флоренского (использую выражение, которое ныне в ходу), свидетельствуют и многочисленные свидетельства из дневника А. В. Ельчанинова. В шутливом и серьезно-озабоченном тоне друг Флоренского рассуждает о «равнодушии Павлуши к дамам и его частой влюбленности в молодых людей», причинах этого и пр. (См. запись от 7. 07. 1909 // Взыскующие Града. М., 1997, с. 201).
В своих «Воспоминаниях» Евгения Герцык приводит интересный факт, связанный с Вяч. Ивановым. В 1908 г. этот оргиаст заинтересовался «хлыстовством, пьяным тем же вином духа». И вот, увлеченный сходными вещами М. Пришвин повез его к хлыстовской богородице – также «пьяной богом вакханке», с которой Иванов тогда долго беседовал. Впоследствии, на ивановской лекции, эта женщина, отвечая на сомнения Евгении относительно доступности для нее профессорского глубокомыслия Иванова, насмешливо отвечала: «Имена разные, и слова разные, а правда одна» (Герцык Е. Воспоминания. М., 1990, с. 124, 122).
В свою очередь Мережковские брали на вооружение идеи позднего Соловьёва, наиболее отчетливо выраженные в трактате «Смысл любви». Соловьёв там развивает представление о половой любви как общении подлинно религиозном, – более того – реально спасающем любящих от смерти, благодаря актуализации ими райской андрогинности человека. Мережковские называли подобную любовь «влюбленностью» (это термин их экклезиологии!) и императивно культивировали в «Нашей Церкви».
Флоренский не постеснялся увенчать свою диссертацию разделом «Ревность» («Письмо 12»). Понятие ревности будто бы диффамировано «ходячим интеллигентским» (одиозное черносотенное словцо!) словоупотреблением. И вот, автор «Столпа» тщится обосновать едва ли не святость ревности, софистически подменяя это понятие смыслом «ревнования о Боге», привлекая и образ «Бога-ревнителя». В ход идут цитаты из свв. отцов, даже из Евангелия, а также игра этимологий. О личном опыте Флоренского, стоящим за этими построениями, можно узнать из его писем к Розанову 1909 года.
Излагая в главе «Утешитель» взгляды Мережковского под видом святоотеческих, Флоренский не гнушался при этом высокомерно критиковать «людей “нового религиозного сознания”» («Столп…», указ, изд., с. 128–129). «Церковность так прекрасна», – на все лады возглашает он уже в пику Мережковским. Но не за горами то время, когда, уже в духе совсем «нового» – советско-атеистического сознания, Флоренский будет клеймить русскую Церковь, переживающую свою Голгофу, – ту же православную «церковность», – именуя ее «догнивающим клерикализмом» (см. «Предполагаемое государственное устройство в будущем» // Священник Павел Флоренский. Сочинения в четырех томах. Т. 2. М., 1996, с. 639).
См. письмо Флоренского к Андрею Белому от 14 июня 1904 г. и письмо Андрея Белого к Флоренскому от 27 мая 1904 г. // Контекст-1991. М., 1991, с. 29, 26 соотв.
Легче всего в тогдашнее сознание оно могло проникнуть из романа Мережковского о Юлиане Отступнике: Мережковский там красочно описывает посвящение императора в мистерии Митры и общение с теургами-неоплатониками. Чуть позднее о мистериях стали рассуждать в ключе антропософии.
Письмо Флоренскому Андрею Белому от 15 июля 1905 г. // Контекст-1991, с. 39. В