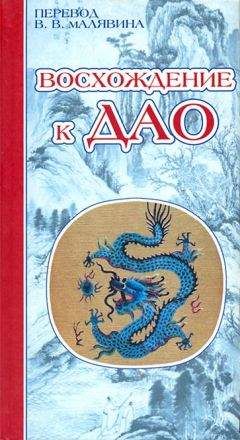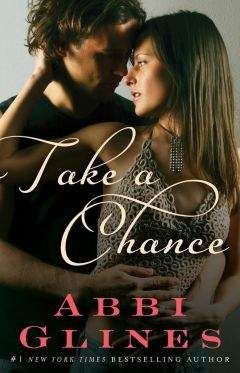В свое время М. Жирмунский акцентировал взгляд А.Н. Веселовского на литературу как на отражение общественной жизни, на «связь развития литературы с развитием общества в целом, включение ее закономерностей в более широкие закономерности общественной жизни» [9, с. 8]: «Факты жизни связаны между собой взаимной зависимостью, экономические условия вызывают известный исторический строй, вместе они обусловливают тот или другой род литературной деятельности, и нет возможности отделить одно от другого» [10, с. 390]. В этой мысли А. Веселовского, подчеркивающей моменты взаимозависимости, взаимовлияния, уже просматриваются обоснования компаративистики как сравнительно-исторического метода, наиболее актуального при исследовании явления, выходящего за рамки национальных культур, приобретающих в той или иной мере статус общечеловеческих. К таким явлениям принадлежит и Фауст как вечный образ мировой литературы, и фаустовская культура, чей портрет, согласно Шпенглеру, он представляет.
С мыслью А. Веселовского нельзя не согласиться. «Включение закономерностей литературы в более широкие закономерности общественной жизни» часто состояло в том, что литература последовательно выделяла, глубоко осмысливала и развивала те явления культурно-исторического процесса, которые еще не нашли своего научного, в том числе философско-эстетического осмысления, не были постигнуты культурным сознанием эпохи, и свое научное осмысление обретали гораздо позже. «Научная революция, – отмечал Г. Кнабе, – в сущности возникает из необходимости привести систему науки в соответствие со сложившейся и живущей в подсознании современников внутренней формой культуры» [11, с. 8]. Особенно ярко эти процессы проявлялись в переходные эпохи. Так, в изданной на заре немецкого Возрождения книге «Письма темных людей», авторами которой явились известные писатели-гуманисты Эрфуртского сообщества, были акцентированы многие моменты, которые позднее были положены в основу идеологии немецкой Реформации; в «Легенде о докторе Фаусте» и первой ее литературной обработке, осуществленной Кристофером Марло, уже были отражены те противоречия человеческой природы и культуры, которые вскоре будут осмыслены как «вечные». Более выразительно «провидческая» миссия литературы явила себя в эпоху романтизма, когда именно в литературе вырабатывались новые художественные формы, осмысленные позже как эстетические каноны, когда литература, искусство представлялись более достоверным способом познания мира (Новалис). Открытия, сделанные романтиками в сфере литературы, вырастали в теорию, осваивались эстетико-философской мыслью, которая впоследствии утверждала их как принципы творческого метода или эстетического направления в искусстве. То, что Н. Берковский называл «угрозой в романтизме перехода художественной литературы в философию и филологию» [12, с. 97], предполагало, что романтическая литература осмысливалась как «особый язык теоретической мысли об искусстве» [13, с. 77] и свидетельствовало об активной диалектике взаимодействия эстетики и литературы. С начала XIX в. формирование эстетического сознания уже шло от литературы, в области которой вырабатываются эстетические константы и этические императивы. Тезис Ф. Шлегеля об искусстве как полном и законодательном миросозерцании обретал черты реальности. Для художественного сознания становилась характерной «интерпретация соответственно авторскому мировосприятию смысла и законов реальности, а не перевод ее в конвенциональные риторические формы» [13, с. 105].
Воздействие литературы на эстетическое сознание осуществлялось и на уровне «перехода художественного в общекультурное», являющего изменение мировоззренческих стереотипов, когда литература, продуцируя собственные духовные ценности и антиценности, оказывается способной переориентировать общественное сознание (в определенных случаях даже научное) и общественную психологию, формировать умонастроение, вкусы, специфику повседневной культуры. Возникала ситуация, когда «Сама жизнь начинала организовываться и восприниматься по законам искусства» [14, с. 41]. Примером может служить переход романтизма в мировоззрение, сформировавшее особую модель поведения и мироощущения, которые продолжали «жить» и во второй половине XIX в., против чего яростно протестовал Г. Флобер, говоря о том, что современная ему молодежь, формировавшая представления о мире из романтической литературы, оказывалась нежизнеспособной, поскольку эти представления не имели ничего общего с реальной действительностью («Мадам Бовари»). Эстетика романтизма проникала и в быт, образуя «каркас салонно-бюргерского обихода» второй половины XIX в., переходила в сферу науки, о чем свидетельствуют трактат «Физика как искусство» И.В. Риттера, «Философия общего дела» Н.Ф. Федорова, где политическая экономия взаимодействует с мистикой загробной жизни и т. п. Стоит упомянуть и такое культурное явление, которое в современной науке явлено как понятие «универсальной метафоры»: речь идет о каком-либо культурном явлении или предмете реального мира, которое, будучи осмысленным сначала художественным сознанием, переходит затем из литературы в другие сферы деятельности и там закрепляется. Таковым является, например, «кабинет курьезов» – сначала как образ антикварной лавки в «Шагреневой коже» Бальзака, затем как описание магазина и экономическое понятие в «Критике политической экономии» К. Маркса [15].
Этим же путем шла литература и в осмыслении фаустовской идеи. Концепция фаустовской культуры как теоретическое обоснование этого явления в культурфилософской мысли появилась в XX веке, однако задолго до Шпенглера и романтическая литература, и ранее – литература Возрождения акцентировали и развивали те ключевые проблемы культурного процесса, которые впоследствии Шпенглер обозначит как параметры фаустовской культуры. Именно литература создала героя (фаустовский человек), определила среду его обитания (город), выделила особенности характера (конфликтность) и его функционирования, очертив при этом круг вечных проблем и трагических противоречий западноевропейской культуры – вечное познание, воля к власти, преображение мира. Осмысливая концепты фаустовской культуры, именно литература дала ее целостный образ и наметила перспективы дальнейшего развития. Перефразируя известное изречение Вл. Соловьева, литература дала «ощутительное изображение» явления фаустовской культуры «с точки зрения его окончательного состояния или в свете будущего мира» [16, с. 399].
И поскольку понятие фаустовской культуры было обосновано Шпенглером только в начале XX в., наиболее известные, написанные до этого момента, литературные произведения, в которых осмысливалась фаустовская проблематика, можно считать эстетически-программными. Среди них выделим «Трагическую историю доктора Фауста» Кристофера Марло, «Жизнь Фауста, его деяния и низвержение в ад» Ф.М. Клингера, «Фауст» Гете, «Фауст» Н. Ленау, «Сцены из Фауста» и «Наброски к замыслу о Фаусте» А.С. Пушкина. В этих произведениях прорисовывались уже не столько черты образа Фауста новых формаций, сколько черты именно фаустовской культуры в литературе, где образ Фауста выступает одним из слагаемых целой культуры.
2.1.1. Эпоха Возрождения как время становления фаустовской культуры
Эпоха Возрождения, принципиально изменившая западноевропейскую картину мира и представившая новый взгляд на человека, веру в безграничные возможности его воли и разума, явила первый наиболее интенсивный порыв фаустовских притязаний, знаменовавший начало первого периода фаустовской культуры, подготовленного веками позднего средневековья[7]. Глубокий интерес к человеческой индивидуальности, обусловивший тенденцию к идентификации человеческого и божественного, положил начало богоборческим устремлениям фаустовского духа, зафиксированным программно уже в трактате Пико делла Мирандоллы «Речь о достоинстве человека»: «Тебе дана возможность… подняться до существа богоподобного – исключительно благодаря твоей внутренней воле. В душу вторгается святое стремление, чтобы мы, не довольствуясь заурядным, страстно желали высшего и, по возможности, добивались его, если хотим. Нам следует отвергнуть земное, пренебречь небесным и, наконец, оставив позади все, что есть в мире, поспешить в находящуюся над миром курию, самую близкую к высочайшей божественности» [17, с. 113]. Образ человеко-бога, созданный эпохой Возрождения, являл, по сути, идею неисчерпаемости человеческих возможностей, способности к бесконечному саморазвитию.
Основным путем к саморазвитию представлялось познание мира. Ориентация на научное знание, обособленное от религиозной морали, становится ключевой составляющей идеологии гуманизма. При этом задачей гуманистов являлось не столько развитие самого научного знания, сколько его определение как высшей ценности: эпоха Возрождения, – отмечает В. Найдыш, – решала другую задачу: посредством глубокого синтеза имевшегося мыслительного материала, нового способа функционирования культуры, новой системы ценностей осуществить объективистскую перестройку сознания, сформировать его новый исторический тип, в котором бы познавательная составляющая сознания доминировала над ценностной [18, с. 178]. Эпоха Возрождения, таким образом, знаменовала начальный этап обособления знания от морали: со времен европейского Ренессанса, – отмечает А. Панарин, – наука постепенно эмансипируется от велений Добра – от цензуры нравственного запрета, олицетворяемой религиозной верой [3, с. 35]. Стремление к познанию мира, к проникновению в тайны природы подразумевало единую цель – подчинение своему разуму и своей власти природных сил, управляющих явлениями материального мира. В свою очередь овладение тайнами знания открывало возможность осуществления идеи преображения мира, вызревающей в умах гуманистов.