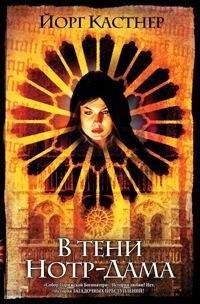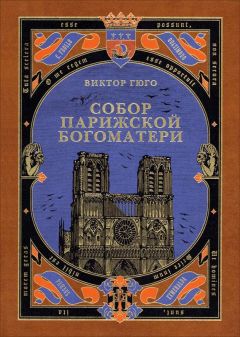У. Э.: Зато у нас были солнечные князья, которые, управляя городами, создавали при этом все условия для невероятного творческого расцвета, продолжавшегося до XVII века. После было только медленное угасание. Аналогом вашего Короля-Солнца был папа римский. И неслучайно, что во времена правления величайших понтификов архитектура и живопись были очень развитыми. А вот литература — нет. Великая литературная эпоха в Италии — это время, когда поэты работали у сеньоров небольших городов, таких как Флоренция или Феррара, а не в Риме.
Ж.-К. К.: Мы постоянно говорим о фильтрации, но как производить отбор, если речь идет об эпохе, которая еще недостаточно удалена от нас? Представим, что меня попросят написать о месте Арагона[134] в истории французской литературы. Что я расскажу? Арагон с Элюаром[135] после сюрреалистического периода писали совершенно ужасные тексты, изобилующие коммунистическими гиперболами: «Мир Сталина постоянно возрождается…». Возможно, Элюар останется в истории как поэт, Арагон, может быть, как автор романов. Однако на сегодняшний день из его творчества я помню только песни, положенные на музыку Брассансом[136] и другими. «Il n'y a pas d'amour heureux» или «Est ainsi que les hommes vivent?»[137]. Мне до сих пор очень нравятся эти тексты, с ними расцветала моя юность. Но я хорошо понимаю, что это всего лишь эпизод в истории литературы. Что от него останется для будущих поколений?
Еще один пример из кино. Когда я учился пятьдесят лет назад, кинематографу было примерно полсотни лет. В те времена у нас были великие учителя, мы восхищались их произведениями, анализировали их. Одним из этих учителей был Рене Клер. Бунюэль говорил, что только три режиссера могли делать все, что им вздумается (я имею в виду 30-е годы): это Чаплин, Уолт Дисней и Рене Клер. Сегодня в киношколах никто не знает, кто такой Рене Клер[138]. Он, как сказал бы папаша Убю, «отправился в дыру»[139]. Едва ли кто-то помнит его имя. То же самое можно сказать про «немцев» 30-х годов, к которым был так неравнодушен Бунюэль: Георг Вильгельм Пабст[140], Фриц Ланг и Мурнау[141]. Кто их знает, кто их цитирует, кто берет с них пример? Наверное, Фриц Ланг еще жив, по крайней мере, в памяти киноманов, благодаря своему фильму «М». А остальные? Стало быть, отсев происходит незаметно, невидимо, внутри самих киношкол, и здесь все решают сами студенты. И вдруг один из этих «отсеянных» возникает вновь, потому что где-то показали какой-то его фильм, который произвел впечатление. Или потому что выпустили книгу об этом авторе. Но это такая редкость. Таким образом, можно сказать, что едва фильм входит в историю, как он сразу погружается в забвение.
У. Э.: То же самое можно сказать об эпохе рубежа XIX и XX веков и о трех королях итальянской поэзии: д'Аннунцио, Кардуччи[142] и Пасколи[143]. До прихода фашизма Д'Аннунцио был великим национальным поэтом. После войны творчество Пасколи было открыто заново как авангард поэзии XX века. Кардуччи в то время считали знатоком риторики. Он исчез. Но сейчас существует движение в защиту Кардуччи, которое утверждает, что, в конечном счете, его поэзия была не такой уж и плохой.
Три короля следующего поколения — это Джузеппе Унгаретти[144], Эудженио Монтале[145] и Умберто Саба[146]. Никак не могли решить, кто из них троих достоин Нобелевской премии, и в 1959 году ее дали Сальваторе Квазимодо[147]. Монтале, который является, наверное, самым крупным поэтом XX века в Италии (а по моему мнению — одним из величайших поэтов XX века вообще), получил Нобелевскую премию лишь в 1975 году.
Ж.-К. К.: Для моего поколения лучшим в мире в течение двадцати пяти — тридцати лет было кино итальянское. Каждый месяц мы ждали выхода двух-трех итальянских фильмов, их ни в коем случае нельзя было пропустить. Они были частью нашей жизни даже больше, чем наша собственная культура. В один печальный день это кино иссякло и быстро угасло. Этому, как нам сказали, во многом поспособствовало итальянское телевидение, продюсировавшее кинофильмы. Но этот кинематограф, несомненно, пострадал и от таинственного истощения, о котором мы уже говорили: вдруг все силы исчерпываются, режиссеры стареют, актеры тоже, фильмы становятся похожи один на другой, и что-то главное теряется по дороге. Того итальянского кино больше нет, но оно было одним из величайших в мире.
Что же осталось от тех тридцати лет, заставлявших нас смеяться и дрожать от волнения? Я до сих пор очарован Феллини. Антониони, как мне кажется, и сейчас пользуется популярностью. Вы смотрели «Взгляд Микеланджело», его последний короткометражный фильм? Это одна из прекраснейших кинокартин в мире! В 2000 году Антониони снял этот фильм[148] длительностью не более пятнадцати минут, где нет ни единого слова и где единственный раз в жизни он запечатлел самого себя. Мы видим, как он один входит в церковь Сан-Пьетро-ин-Винколи[149] в Риме и медленно приближается к могиле Юлия II. Весь фильм — это диалог без слов, обмен взглядами между Антониони и «Моисеем» Микеланджело. Все, о чем мы тут говорим, все это неистовое стремление казаться и высказаться, отличающее нашу эпоху, весь этот беспредметный ажиотаж, все это здесь ставится под сомнение молчанием и взглядом режиссера. Он пришел попрощаться. Он больше не вернется, он это знает. Он, уходящий, пришел с последним визитом к непостижимому шедевру, который пребудет вовек. Словно чтобы в последний раз попытаться найти в нем ответ. Попытаться проникнуть в тайну, в которую заказан вход словам. Взгляд, который Антониони бросает на него, уходя, полон патетики.
У. Э.: Мне кажется, в последние годы мы несколько подзабыли Антониони. Феллини же, напротив, после смерти не перестает расти.
Ж.-К. К.: Мне, наверное, ближе Феллини, хотя он все еще не занял заслуженного им места.
У. Э.: При жизни, во времена всеобщей политической ангажированности, его воспринимали как мечтателя, не интересующегося социальными вопросами. То, что после смерти его кино было открыто заново, позволило дать новую оценку его творчеству. Недавно я еще раз посмотрел по телевизору «Сладкую жизнь». Это шедевр.
Ж.-К. К.: Когда говорят об итальянском кино, многие в первую очередь имеют в виду Пьетро Джерми, Луиджи Коменчини, Дино Ризи[150], то есть итальянскую комедию. Я немного опасаюсь, что в конце концов люди забудут тех, что в свое время были для нас полубогами. Милош Форман решил стать режиссером кино, посмотрев в юности фильмы итальянского неореализма, в особенности — картины Витторио де Сики. Для него существовали только итальянское кино и Чаплин.
У. Э.: Мы возвращаемся к своей гипотезе. Когда государство слишком могущественно, поэзия умолкает. Когда государство находится в кризисе, как в Италии послевоенного периода, искусство может говорить свободно то, что считает нужным. Великий период неореализма разворачивается, когда Италия лежит в руинах. Тогда мы еще не вошли в эпоху так называемого итальянского чуда (то есть возрождения промышленности и торговли 1950-х годов). «Рим — открытый город»[151] снят в 1945-м, «Пайза»[152] в 1947-м, «Похитители велосипедов»[153] в 1948-м. Венеция в XVIII веке все еще была могучей торговой державой, но уже клонилась к упадку. Тем не менее там работали Тьеполо[154], Каналетто[155], Гварди[156] и Гольдони. Значит, когда власть переживает закат, одни искусства оживают, другие — наоборот.
Ж.-К. К.: За все время, пока Наполеон был у власти, то есть в период с 1800 по 1814 год, во Франции не было опубликовано ни одной книги, которая бы читалась до сих пор. Живопись той эпохи помпезна и быстро становится банально-напыщенной. Давид[157], который до «Посвящения…» был великим художником, в итоге сделался совершенно бесцветным и плоским. Он безрадостно закончил свои дни в Бельгии, изображая слащавые античные сцены. Музыки не было. Театра тоже. На сцене шли старые пьесы Корнеля: Наполеон смотрит в театре «Цинну»[158]. Мадам де Сталь[159] вынуждена уехать в изгнание. Шатобриана[160] власти ненавидят. Его шедевр, «Замогильные записки», который он пишет тайно, будет опубликован при жизни автора лишь частично и с большим запозданием. Романы, прославившие его, сегодня, увы, читать невозможно. Странный случай фильтрации: то, что он писал для своих многочисленных читателей, невероятно скучно, а то, что он писал в одиночестве, для себя, нас очаровывает.