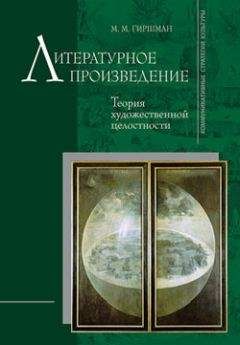5. Гердер И. Г. Избранные сочинения. М.; Л., 1969. С. 160.
6. Лосев А. Ф. Философия имени. М., 1988. С. 47—49.
7. Гадамер Г. Г. Истина и метод. М., 1988. С. 529.
8. Буслаев Ф. И. О влиянии христианства на славянский язык. М., 1848. С. 8.
9. Веселовский А. Н. Историческая поэтика. М., 1989. С. 296.
Слово в художественной целостности литературного произведения
В современной науке можно отметить две противоположные и в то же время сходные друг с другом крайности в подходе к специфике слова в литературном произведении и в изучении художественной речи вообще.
С одной стороны, проявляется своего рода литературоведческий негативизм. Его характеризует утверждение, что художественная речь – это вообще не речь, художественное слово – не языковое слово, так как оно включено в принципиально иную эстетическую деятельность. Поэтому литературоведению в подходе к художественному слову и произведению, с точки зрения В. В. Кожинова, который доводит эту установку до теоретического «упора», необходимо разорвать всякие связи не только с лингвистикой, но и с филологией в целом 1 .
Противоположная позиция может быть определена как лингвистическая (или лингвосемиотическая) экспансия. Суть ее заключается в том, что своеобразие художественного слова и специфика словесно-художественной формы литературного произведения могут и должны раскрываться и изучаться лингвистическими и семиотическими методами в общем ряду с другими реализациями языка и знаковыми системами. При этом совсем не обязательно поэтика считается частью лингвистики – это положение Р. Якобсона продолжает оставаться популярным сейчас, пожалуй, более всего благодаря обилию возражений и полемических рассуждений по его поводу. В книге В. П. Григорьева 2 , который, так же как и Кожинов, склонен к предельному заострению и прояснению теоретической позиции, тезис Якобсона даже преображается «с точностью до наоборот»: получается, что лингвистика – это часть поэтики, ибо поэтический язык – это максимальная манифестация национального языка, охватывающая все его реализации в аспекте заключенного в них творческого потенциала. Но в этом эстетически значимом творчестве эстетическое предстает лишь как компонент лингвистического целого. Здесь нет, конечно же, простого отождествления смысла и функции элементов художественной речи со сходными элементами других речевых разновидностей. Наоборот, Григорьевым выдвигается идея «словопреобразования», содержащая установку на анализ преобразования семантики слова в художественном тексте. Но это преобразование мыслится в пределах единой субстанции, в пределах качественной однородности, так что художественное слово оказывается разновидностью, вариантом в пределах этого общего лингвистического или лингвосемиотического качества.
Я бы хотел противопоставить этому положению принципиально иной тезис, но прежде чем его сформулировать, необходимо уточнить предмет рассмотрения. Речь идет о художественном слове как значимом элементе литературного произведения, который обладает семантической и структурной определенностью и в котором выражается эстетическая сущность и специфика художественного целого. Я считаю, что так понимаемое художественное слово именно качественно, субстанционально отличается от своего внехудожественного прототипа, его преображение в художественном произведении есть именно переход в новую сферу бытия, в новое качество, в котором оно не существует до произведения и за его пределами, и эта эстетическая специфика художественного слова не раскрывается полностью лингвистическими и семиотическими методами.
Чтобы конкретизировать этот тезис, приведу вначале несколько примеров, не столько доказательных, сколько показательных, позволяющих пояснить, о чем, собственно, идет речь. Где еще, скажем, широко распространенное в различных высказываниях слово и даже литературоведческий термин «трагедия» значит хотя бы в основном то же и звучит так же, как в стихотворении Б. Пастернака:
Здесь прошелся загадки таинственный ноготь. —
Поздно, высплюсь, чем свет перечту и пойму.
А пока не разбудят, любимую трогать
Так, как мне, не дано никому.
Как я трогал тебя! Даже губ моих медью
Трогал так, как трагедией трогают зал.
Поцелуй был, как лето. Он медлил и медлил,
Лишь потом разражалась гроза…
И дело не только в том, что здесь ближайшим родственником слова «трагедия» оказывается конкретно-действенное, даже конкретно-осязательное «трогать», главное – проявляющееся в этом слове общее пересечение и смещение границ между телесным и духовным, материальным и идеальным, вещественным и личностным, что является одним из самых характерных смысловых устоев поэтического мира Пастернака, где «перегородок тонкоребрость пройду насквозь, пройду, как свет, пройду, как образ входит в образ и как предмет сечет предмет». Причем это не семантический обертон, не просто новый оттенок, а основное в данном случае значение слова, семантический центр его как значимого элемента конкретного художественного целого, и в таком качестве это слово не существует за пределами данного целого.
Таким же не заранее готовым, а индивидуально-сотворенным является центральное значение общеизвестного названия города в стихах поэта, у которого с этим городом складывались совершенно особые отношения:
Пусти меня, отдай меня, Воронеж:
Уронишь ты меня иль проворонишь,
Ты выронишь меня или вернешь, —
Воронеж-блажь, Воронеж-ворон, нож…
Своеобразие, о котором идет речь, отнюдь не сводится к самой по себе поэтической этимологии, паронимии или паронимической аттракции, которую интенсивно изучает современная лингвистическая поэтика. Паронимия, как и любое другое средство речевой выразительности и словесно-художественный прием, может повторяться так же, как повторяется вроде бы одно и то же слово в различных художественных высказываниях. Но в том-то и дело, что в произведении, как особом, эстетически значимом целом, и все слова, и все приемы и средства качественно, субстанционально преображаются, становясь плотью художественного мира, единственно возможной формой действенного осуществления смыслопорождающего поэтического содержания.
Приведу еще один пример, где в двух разных произведениях повторяются и одни и те же слова, и одни и те же приемы:
…Я говорю с подругой юных дней;
В твоих чертах ищу черты другие;
В устах живых уста давно немые,
В глазах огонь угаснувших очей.
(М. Ю. Лермонтов. «Нет, не тебя так пылко я люблю»)
Жизнь моя все короче, короче,
Смерть моя все ближе и ближе…
Или стал я от этого зорче,
Или свет нынче солнечный ярче,
Но теперь я отчетливо вижу,
Различаю все четче и четче,
Как глаза превращаются в очи,
Как в уста превращаются губы,
Как в дела превращаются речи …
(Л. Мартынов. «Удача»)
Слова-синонимы: «глаза» и «очи» – здесь однотипно противопоставляются и образуют своего рода синонимическую антитезу. Но ведь в чем-то самом существенном они качественно отличаются друг от друга тем семантическим центром, или основным значением, которое и делает каждое из них значимым элементом конкретного художественного целого, проявлением его смыслообразующих законов. И фраза: «глаза превращаются в очи», – совершенно обычная и правильная с точки зрения общеязыковых норм, является не только неправильной, но и просто совершенно невозможной с точки зрения законов лермонтовского художественного мира. Вся трагедия этого «двоемирного» мира как раз и заключается в том, что глаза никогда и ни при каких условиях не могут превратиться в очи и абсолютное, ничем не искоренимое стремление к идеальным «очам» не может быть удовлетворено никакими реальными «глазами». Только воплощая это романтическое двоемирие: абсолютное, ничем неуничтожимое стремление к абсолютно недостижимому идеалу и столь же абсолютное отрицание всего достижимого и достигаемого, – слова «глаза» и «очи» обретают стилевую характерность и смыслопорождающую индивидуальность, опять-таки не существующую за пределами произведения как целого.
Теоретическое обобщение, разъясняющее все эти примеры, может быть сформулировано следующим образом: семантическим центром слова как художественно значимого элемента является мир и смысл произведения, а произведение при этом оказывается новым, индивидуально сотворяемым словом, впервые называющим то, что до этого не имело имени. Такой ход мысли заставляет вспомнить очень известную, хотя, по-моему, и до сих пор недостаточно осмысленную и оцененную идею А. А. Потебни о структурной общности слова и поэтического произведения. Эта аналогия многократно обсуждалась и критиковалась, в частности, за то, что она не учитывает структурно-композиционной сложности литературного произведения, резко отличающей его от слова. Например, В. В. Виноградов считал, что «в системе Потебни наглядно обнаружилась непригодность для исчерпывающего анализа художественно-словесной структуры той стилистической системы, которая вся покоится на раскрытии понятия о „слове“ и „словесном ряде“ – вне динамики их многообразных связей в структуре целого… Потебня даже целостные художественные произведения рассматривал по аналогии со „словом“, тем самым упрощая имманентный анализ их структуры вплоть до устранения проблемы композиции» 3 .