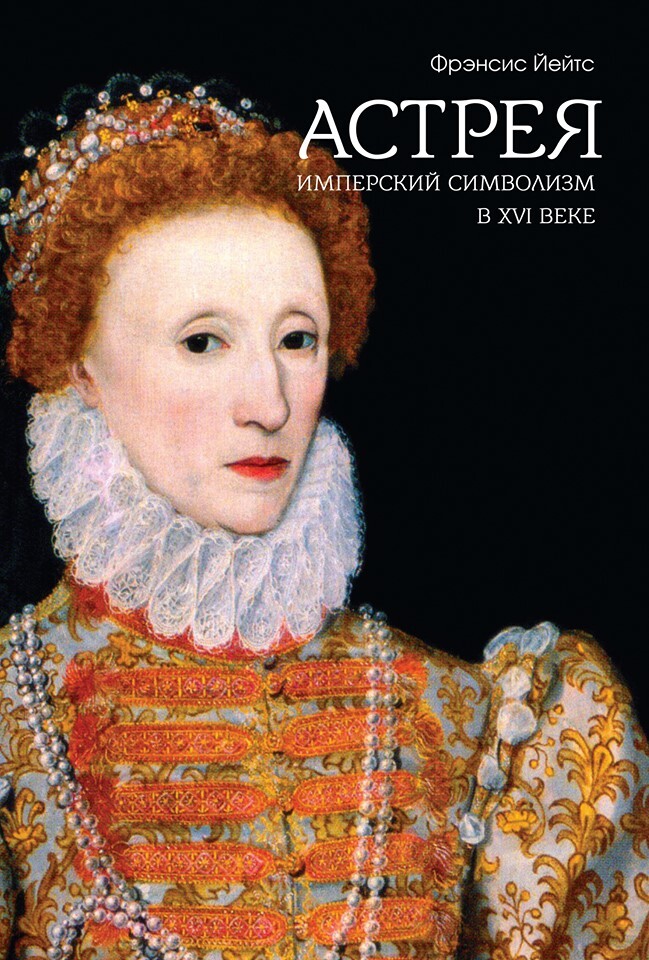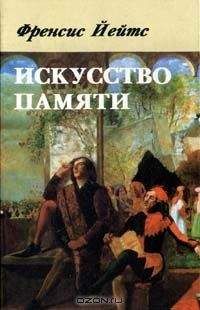в молчании». С того времени он решил безмолвствовать и не говорить совсем, хотя глаза его и ум все вокруг постигали и укрывали в памяти. Даже когда исполнилось ему сто лет, он помнил лучше, чем Симонид, и воспевал память в гимнах, где говорил, что все вещи канут во времени, но время само неуносимо и бессмертно в припоминании 72.
Путешествуя, Аполлоний посетил Индию, где беседовал с брамином, который сказал ему: «Я вижу, ты обладаешь прекрасной памятью, Аполлоний, а этой богине мы поклоняемся больше всего». Беседы Аполлония с брамином были весьма глубоки и в особенности касались астрологии и предсказаний; брамин дал ему семь колец с выгравированными на них именами планет, которые Аполлоний носил каждое в свой день недели 73.
Быть может, из этой атмосферы несколько выбивается формирование той традиции, которая столетиями оставалась скрытой, незаметно менялась и проявилась в средние века в виде ars notoria 74, магического искусства памяти, создание которого приписывается Аполлонию или иногда Соломону. Практикующий ars notoria читает магические молитвы и при этом вглядывается в рисунки или диаграммы, помеченные странными знаками и именуемые notae. Таким путем он стремится обрести знание или память обо всех искусствах и науках, закрепляя различные notae за каждой дисциплиной. По-видимому, ars notoria является побочной дочерью классического искусства памяти или тем малопонятным ее ответвлением, где применялись стенографические notae. Оно рассматривалось как некая разновидность черной магии и было со всей суровостью осуждено Фомой Аквинским 75.
Наиболее близкий к последующей истории искусства памяти на романизированном Западе период развития этого искусства в античные времена – это его применение в великую эпоху латинских ораторов, как оно отображено в Ad Herennium и в указаниях Цицерона. Память искушенного оратора того времени должна представляться нам в виде архитектурного строения с порядками запоминаемых мест, которые непостижимым для нас способом заполнены различными образами. Из приведенных выше примеров нам понятно, насколько высоко ценились достижения памяти. Квинтилиан говорит об изумлении, которое вызывала сила памяти ораторов. Он также указывает, что феноменальное развитие ораторской памяти привлекло внимание латинских мыслителей к философскому и религиозному аспектам памяти. Квинтилиан говорит об этом в возвышенных выражениях:
Никогда нам не случилось бы осознать, насколько велика сила (памяти) и насколько она божественна, если бы не та память, что вознесла красноречие на его славную вершину 76.
Этому указанию на то, что практический латинский ум принужден был обратиться к памяти, поскольку она развивалась в наиболее важной области, открытой для карьеры римлянина, возможно, не уделялось должного внимания. Слишком большого значения ему придавать не стоит, однако было бы интересно взглянуть с этой точки зрения на философию Цицерона.
Цицерон был главнейшей фигурой не только в процессе переноса греческой риторики в латинский мир; возможно, более важную роль, чем кто-либо другой, он сыграл и в популяризации платоновской философии. В «Тускуланских беседах», одной из работ, написанных уже в уединении, где он содействовал распространению греческой философии среди своих соплеменников, Цицерон занимает платоновскую и пифагорейскую позицию в отношении души, утверждая, что она бессмертна и имеет божественное происхождение. Доказательством этого является то, что душа наделена памятью, «которую Платон желает представить как припоминание предыдущей жизни». После долгого объяснения о полной приверженности именно платоническому подходу к этому предмету мысль Цицерона обращается к тем, кто был знаменит силой своей памяти:
Что до меня, я все больше удивляюсь памяти. В самом деле, что делает нас способными к запоминанию, какой характер имеет эта способность, каково ее начало? Я не спрашиваю о силе той памяти, которой, как говорят, были наделены Симонид или Феодект, или о памяти Кинея, которого Пирр направил послом в сенат, или, уже в недавнее время, о памяти Хармада или Метродора Скепсийца, который дожил до глубокой старости, или нашего Гортензия. Я говорю об обычной памяти человека, в особенности такого, кто вовлечен в высокие области познания или искусства и чьи умственные способности едва ли поддаются оценке, так много он помнит 77.
Затем он обращается к неплатоновским, аристотелевским и стоическим исследованиям психологии памяти и приходит к выводу, что в них не учитываются скрытые в памяти огромные силы души. Далее он задает вопрос, что представляет собой та сила в человеке, которая проявляется во всех его открытиях и изобретениях, тут же им перечисляемых 78: человек, который первым дал имя всем вещам; человек, впервые объединивший отделенных друг от друга людей и сформировавший социальную жизнь; человек, придумавший письменные знаки для выражения устной речи; человек, обозначивший пути блуждающих звезд. Еще раньше это были «те люди, что открыли плодородие земли, изобрели одеяния, жилища, установили порядок жизненного пути, организовали защиту от диких тварей – люди, благодаря цивилизующему и облагораживающему влиянию которых мы постепенно продвинулись от самых что ни на есть простейших ремесел к возвышенным искусствам». Например, к искусству музыки и «надлежащим сочетаниям музыкальных тонов». И к открытию обращения небес, каковое совершил Архимед, когда он «обозначил на сфере движения Луны, Солнца и пяти блуждающих звезд». Затем следуют еще более достойные сферы деятельности: поэзия, красноречие, философия.
Сила, способная порождать такое количество важных деяний, по моему разумению, совершенно божественна. Ведь что есть память о вещах и словах? Что такое, далее, изобретение? (Quid est enim memoria rerum et verborum? quid porro inventio?) Воистину, даже в Боге нельзя представить что-то более ценное… Поэтому я и говорю, что душа божественна, а Еврипид даже отваживается говорить, что она – Бог… 79
Память для вещей, память для слов! Без сомнения, знаменательно, что технические термины искусной памяти приходят на ум оратору, когда он как философ доказывает божественность души. Это доказательство входит в ведение двух частей риторики, memoria и inventio. Замечательная способность души помнить вещи и слова является доказательством ее божественности; то же и относительно ее способности изобретать – здесь не в смысле нахождения аргументов или предметов речи, а в общем смысле изобретения или открытия. Вещи, которые Цицерон перечисляет в ряду изобретений, представляют историю человеческой цивилизации от самых примитивных до наиболее развитых эпох. (Сама способность сделать это является свидетельством силы памяти; согласно риторической теории, изобретенные вещи хранятся в сокровищнице памяти.) Так memoria и inventio в том смысле, в каком они трактуются в «Тускуланских беседах», из частей риторики становятся разделами, в которых в соответствии с платоновскими предпосылками философии оратора доказывается божественность души.
Работая над «Беседами», Цицерон, вероятно, удерживал в уме образ совершенного оратора, как о