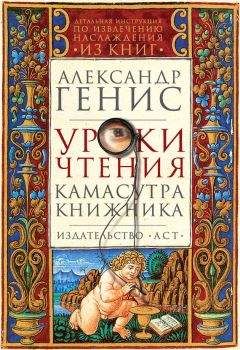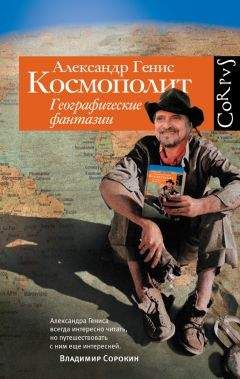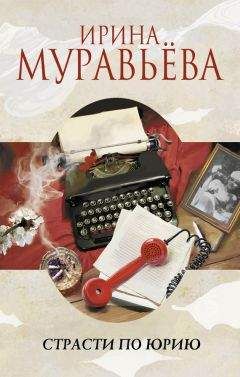В дороге мы ищем незнакомого, и если вычитанное мешает настоящему, надо забыть всё, что мы знали (но сперва все-таки узнать). Только загнав готовое восприятие на задник ума, мы способны принять увиденное таким, каким его никто не видел. Удавшееся путешествие – сенсорный сбой от столкновения умозрительного с очевидным. Сколько бы мы ни готовились к встрече, она должна на нас обрушиться, сметая фильтры штампов. И тогда окажется, что даже Эйфелева башня не имеет ничего общего с тем, чего мы от нее ждали. Старомодная, но не старая, она не может устареть, как ажурный чулок.
Писать об этом трудно, как обо всем, что смешивает плоть с духом в той же неопределенной пропорции, что боль, спорт и неплатонические связи. Выход – в откровенности, без которой невозможна любая интимность, но прежде всего – поэзия.
Чтобы путевая проза была и путевой, и прозой, она обязана быть авторской. Нас волнуют не камни, а люди – и то, что они чувствуют, глядя на камни. Отчет об увиденном – феноменологическое упражнение, описывающее лишь ту реальность, что поселилась в нашем сознании и сменила в нем занавески. Для такой операции нужна не только любовь к знаниям, но и просто любовь. Она соединяет человека с окружающим в акте интеллектуального соития, за которым тоже интересно подглядывать. Любовь служит марлей, отцеживающей в текст лишь те детали, что внушают ностальгию – еще до того, как мы покинули пейзаж, почти заменивший родину.
Поэтому путевое нужно читать не до, не во время, а после путешествия, чтобы убедиться в том, что оно состоялось. Чужие слова помогают кристаллизировать свои впечатления, сделав их опытом, меняющим состав души. Иначе лучше ездить на дачу.
* * *
Пишущий странник напоминает мясорубку: входит одно, выходит другое, малопохожее. С одной стороны, например, архитектура, с другой – стихи. Они незаменимы в путешествии, ибо занимают мало места, но обладают огромным удельным весом. Поэзия есть безответственный произвол, ограниченный метром, но не повествовательной логикой. Это опре-деление позволяет автору вынимать из увиденного нужные именно ему детали – как рифмы из языка. Отчасти случайные, отчасти неизбежные, они составляют уникальную картину и дают бесценный урок.
Вот почему лучшая путевая проза – поэзия, прежде всего та, что писал Бродский. Как раз в прозе, как это случилось с сомнительным “Стамбулом” или просто лишней Бразилией (“Посвящается позвоночнику”), этого не видно. Но в стихах Бродский применял оптику, которая не снилась “Лейке”:
Ты не вернешься сюда, где, разбившись попарно,
Населенье гуляет на обмелевшем Арно
…
Набережные напоминают оцепеневший поезд.
Дома стоят на земле, видимы лишь по пояс.
Поэту не вернуться в этот город, потому что он бредет по времени, а город в нем застрял, и по Арно, обмелевшему от хода лет, никуда не уплывешь. Но если даже не нами сотворенная река замедлила свой бег под грузом осевшей истории, то что уже говорить о домах, вросших в рыхлую почву прошлого. Выстроившись вагонами вдоль рельсов речки, они застыли в пути, не доехав до забытой цели. В этой оцепеневшей сказке идти некуда, зато здесь можно гулять: взад-вперед, туда и обязательно обратно. Автору для этого, однако, не хватает пары.
Какое отношение эта меланхолическая обстановка имеет к географии? Что делает эту литературу путевой?
Повод. Не впечатлениями дарит нас дорога, а состоянием. Путешествие – опыт самопознания: физическое перемещение с духовными последствиями. Встроив себя в пейзаж, автор его навсегда меняет – на уставшую реку, строй вошедших в нее фасадов и умелый, как в неспешном менуэте, парный парад горожан, собравшихся на предвечернее paseo. Говоря одним словом, Флоренция.
* * *
Когда самое интересное в путешествии – путешественник, то лучше читать о том, о чем и писать-то нечего. По моему горячему убеждению, лучшую путевую прозу писали полярники. В высоких широтах единственная достопримечательность – абстракция, невидимая, неосязаемая и бесспорная, как душа и полюс.
Полюс был Граалем прогресса. От него тоже не ждали ничего конкретного, но все к нему стремились – по мотивам, не до конца выясненным. Эта благородная неопределенность – лучшее из всего, что есть в нашей истории. Полярник – как конкистадор, но лучше: дух, очищенный от алчбы и жестокости.
Я люблю этих людей и горжусь, что принадлежу к тому же – людскому – племени. Обуреваемый честолюбием, как Цезарь, благочестивый, как монах, любознательный ученик Просвещения, романтичный, как влюбленный поэт, и практичный, как буржуа, тип полярника – высшее достижение Запада, вершина расы.
По пути к полюсу путешественники писали такую прозу, что на ней следует воспитывать школьников. Пример доблести, Плутарх без войны. Их литературный дар был попутным, нечаянным. Они вели дневники в соавторстве с природой и подражая ей – терпением, масштабом, философией. Приближение к точке, где исчезает всякая жизнь, кроме собственной, да и то не всегда, придавало всякой строке экзистенциальную наценку. На этих широтах вес слов был так велик, что всякая подробность – от метеорологической до кулинарной – звенит, как на морозе.
К тому же все они, похоже, были хорошими людьми, не говоря уже о лучшем – Нансене. Чтобы в этом убедиться, поставьте себя на его место. По дороге домой, не сумев до него добраться вовремя, Нансен вынужден зазимовать со спутником, которого он выбрал лишь потому, что тот лучше других ходил на лыжах. Много месяцев в одной норе с почти случайным человеком. За полярным кругом это даже не робинзонада – зимой тут можно только ждать лета.
И все же жизнь, – пишет Нансен, – не была столь невыносимой, как это, пожалуй, может показаться. Мы сами считали, что, в сущности, живем неплохо, и настроение у нас всегда было хорошее. Тем более в Рождество: Мы празднуем этот день в меру возможностей: Йохансон вывернул свою фуфайку, я сменил подштанники.
Человек своего времени, Нансен и тут видит пейзаж, как будто взятый из символистской пьесы: “Бесплотная, призрачная красота, точно красота вымершей планеты, сложенной из сверкающего мрамора”.
Но главное, что больше мыла и хлеба, родных и дневного света, Нансену той зимой не хватало книг и, выучив наизусть единственную, что была с ними, он все равно открывал ее вновь и вновь:
Немногие годные для чтения отрывки в наших мореходных таблицах и календаре я перечитывал столько раз, что заучил наизусть почти слово в слово, начиная с перечисления членов норвежского королевского дома и кончая указаниями мер спасения погибающих на водах и способов оживления утопленников.
Я вспоминаю этот абзац каждый раз, когда накатывает ужас и мне кажется, что книги не нужны.
Арабская революция застала меня врасплох, и это не удивительно. Поразительно, что о ней не догадывались и те, кому положено. И это вновь убеждает меня в том, что им положено куда больше, чем они заслуживают. Главный секрет секретных служб заключается в их профессиональной непригодности. Ее оправдывает только свобода, то есть непредсказуемость.
Следя за революцией, я прихожу в философский ступор, потому что история с открытым концом – не история вовсе. Без финала она лишена структуры, а значит, и смысла. Ее нельзя нанести на ментальную карту, как реку без устья.
Устав переживать, я звоню в высшую инстанцию:
– Пахомов, что сказал бы Гегель, глядя в телевизор?
– Свобода – это осознанная необходимость.
– И кто победит?
– Как Наполеон: Дух на коне, то бишь на танке.
– А танк чей?
– Будущее покажет.
Но будущего – того, что вернет историю на свое место, – еще нет, и революция компрометирует его возможность. В час перемен непредсказуемость концентрируется до ощутимого, как электричество в грозу, предела, и я сторожу у экрана то грозное и упоительное мгновение, когда случайное окажется неизбежным – и незабываемым. История – как стоячая вода в морозный день, которая ждет камня, чтобы враз замерзнуть. Только тут – закипеть.
Я видел, как история стоит на ребре в эйфорическом 1989-м. Бухарест. Созванный партией официальный митинг. Привычная ко всему толпа на площади. И вдруг людская масса внезапно и необъяснимо подалась к правительственному балкону. И, не устояв перед импульсом материализованной ненависти, Чаушеску попятился на полшага, ставшего роковым. Все остальное – крах режима, расстрел зловещей четы, новая Румыния – началось с нескольких сантиметров отступления. Тогда на наших глазах произошло чудо, подобное нынешнему: нисхождение Клио на землю.
Вся история – череда таких чудес. Как все сверхъестественное, их нельзя предсказать, разве что объяснить, но только задним числом. И в этом – надежда и ужас свободы.