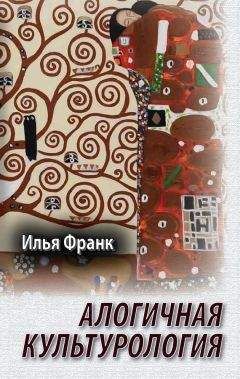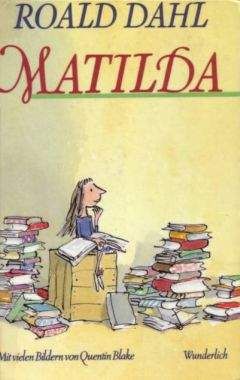Я, не моргнув глазом (то есть моргнув, и даже икнув, но не от вопроса), отвечаю: «Это проще простого! Не будем далеко ходить, возьмем тебя для примера. Что я вижу? Сосипатр пьет водку. Это факт, он налицо. (Да, давай, за встречу.) Что я сказал? Я сказал фразу: "Сосипатр пьет водку”. И вот еще, смотри, я беру прутик и рисую (на снегу – мы беседуем на улице, поскольку на свежем воздухе лучше работает мозг): вот ты, вот стакан с напитком, вот как ты это проделываешь. У нас три схемы, каждая составлена из аналогичных кубиков: Сосипатр, пьет, водку».
Тут Сосипатр строго посмотрел на меня и отчеканил: «Что ты врешь? Схемы две. Фраза и рисунок!»
«Нет, Сосипатрушка, схемы три – ты себя не посчитал. Три одинаково устроенные схемы, имеющие один смысл». Тут Сосипатр покачнулся, но я удержал его от падения. «Держись, приятель! Философия может привести к головокружению, при неумеренном потреблении или, как у тебя, с непривычки. Бог с ним, с рисунком, пусть две схемы: факт и фраза: Сосипатр пьет водку и "Сосипатр пьет водку”. С одной стороны, потеря почвы под ногами (это минус): непонятно, что есть копия чего? А может, тебя, пьющего водку, вообще нет, а есть только фраза? С другой стороны, представь себе: ты (то есть твое действие) – фраза! Ты включен в язык, "великий и могучий”! Ты не просто какой-то там непонятный Сосипатр, ты сказан, ты нарисован! Ты логичен! То, что ты делаешь, исполнено смысла! Факт и фраза закрутились, как пропеллер (состоящий из двух лопастей), образовав единый круг. И оттого фраза налилась живым соком! А твой поступок оказался приобщен к логике мира!»
Тут Сосипатр что-то сказал, неважно что. Я продолжил: «Но вот смотрю я на тебя, друг Сосипатр, и не могу сказать, чтобы это было отрадным зрелищем. Скорее жалкое. Сосипатр пьет водку – и больше тут ничего не скажешь. Тут не поговоришь "о Шиллере, о славе, о любви”. Остается только молчать. Silentium! Так что Витгенштейн надолго задумался и в результате превратился из раннего Витгенштейна в позднего. (Ну, давай, за обоих Людвигов!) Переходим к позднему. (Хорошо пошло!) Смотрю я на тебя, Сосипатр, и понимаю, что ты настоящий друг! Помнишь, как мы студентами выпивали у Вечного огня? А как кукурузу воровали на картошке, ночью? А как… Сосипатрушка, дай я тебя обниму, дорогой ты человек! Сосипатр, ты прекрасен! Смотрю я на тебя и чувствую, как это все чудесно: вот мы тут стоим, темно и тихо вокруг (иди, бабуся, своей дорогой, что мы тебе мешаем, что ли?!), струится, поблескивая, снежок, вливается в нас волшебная влага, так сказать, живая вода, eau de vie, смотрим друг на друга, глядим на огни большого города… Сосипатр, ты чувствуешь, какой это момент! Как мы живем главной жизнью, именно сейчас! "Остановись, мгновенье…” Я, Сосипатр, должен тебе одну вещь сказать. Сосипатр, я тебя уважаю! Ты – это я, я – это ты! Один за всех… Сосипатр, держись за меня! И меня держи! Вот, Сосипатрик, это и есть поздний Витгенштейн! Со мной что-то произошло в это чудное мгновенье, и факт, что ты пьешь водку перед моими глазами, наполнил меня восторгом. "Сосипатр пьет водку!” Прислушайся, как это звучит! Это звучит гордо! Это же стихотворение! Ненаписанное, правда, одна строчка пока. Но я его чувствую, даже если никогда не напишу: оно – в этом вечере, в этих падающих снежинках. Даже вот бабулька злобная уходит, а что она выскрипывает своими галошами? "Сосипатр”! Вот теперь действительно все налилось живым соком! И мы с тобой оказались приобщенными к высшей реальности! И она – не во мне, не в тебе, и она не в огнях большого города и не в бабульке! И даже не в бутылке, пьяное ты чудовище! Она – в игре, в которую все это вокруг нас включилось. И игра эта ни на чем не основана, не имеет фундамента! Никакой почвы под ногами нет, и хорошо, что нет! (Да стой же ты, куда ты клонишься!) Игра наша висит в воздухе, как меняющееся облако, которое само строит свои связи и таким образом укрепляется! (Мы воспарили, Сосипатр, мы на облаке, чувствуешь?) И каждое облако неповторимо! И прекрасно, пока еще длится игра. И имя этому – искусство! (Давай, за искусство жизни.) Что, читал ли я сам Витгенштейна или тебе лапшу на уши вешаю? Ну, не читал еще, а знаю понаслышке, как Белинский про Гегеля. Но я прочту. Обязательно прочту. Завтра не обещаю, завтра у меня трудный день (да и у тебя, Сосипатр, тоже), но скоро. (Давай, за философию.) Главное, Сосипатр, что нам сейчас хорошо. Значит, все правильно. Даже если Витгенштейн где-то не дотянул. Немец, он ведь все равно всего понимать не может… (Давай, за нас!)»
8. Когда волнуется желтеющая нива
Михаилу Юрьевичу Лермонтову вдруг пришла в голову строчка: «Когда волнуется желтеющая нива…» И ему это сразу показалось такой классикой! Точнее, было ощущение, что эта строка уже была где-то раньше. Может, он ее где-то у кого-то прочел, а теперь она взяла да и всплыла в памяти. Такое бывает, бывало не раз у собратьев по перу. А теперь, когда всюду идет охота на плагиат, надо быть особенно осторожным. Надо эту строчку погуглить. Так, что мы имеем… «Папа тоже волнуется, что нужно знать будущей маме», «Лисичка желтеющая – Википедия», «Нива 4×4 – Каталог запчастей». Нет, слава Богу, такой строчки до него не существовало!
Можно писать дальше, попробуем развернуть строчку в стихотворение. Лермонтов, думая о процессе создания стихотворения, иногда вспоминал кусочек из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго»:
«Они проезжали по Камергерскому. Юра обратил внимание на черную протаявшую скважину в ледяном наросте одного из окон.
Сквозь эту скважину просвечивал огонь свечи, проникавший на улицу почти с сознательностью взгляда, точно пламя подсматривало за едущими и кого-то поджидало.
"Свеча горела на столе. Свеча горела…” – шептал Юра про себя начало чего-то смутного неоформившегося, в надежде, что продолжение придет само собой, без принуждения. Оно не приходило».
А еще ему нравилась лекция «Имя и природа поэзии» английского коллеги Альфреда Эдуарда Хаусмэна (1859–1936), где тот описывал свой процесс творчества так:
«Выпив пинту пива за ланчем (пиво успокаивает мозг, а послеполуденное время – наименее интеллектуальная часть моей жизни), я выхожу погулять часа на два-три. Я иду, ни о чем особенно не думая, глядя лишь на природу по сторонам, и вдруг вместе с каким-то внезапным и безотчетным чувством в мой мозг залетает строчка-другая стихов, а иногда и вся строфа сразу, сопровождаемые, но не предшествуемые, смутным представлением о стихотворении, частью которого им нужно быть. После этого обыкновенно бывает перерыв около часа, затем, возможно, ключ снова начинает бить вверх. Я сказал "вверх”, потому что, насколько я могу понять, источник этих предлагаемых мозгу указаний находится в той бездне, которую я уже имел случай упомянуть, – под ложечкой. Дома я записываю эти указания, оставляя пробелы, надеясь, что вдохновение придет и в следующий раз. Иногда оно приходило, когда я снова шел гулять в ожидающем и расположенном к восприятию состоянии духа, но иногда я должен был взять процесс сочинения в свои руки и завершить его усилием мозга, и это часто было связано с беспокойством и тревогой, пробами и разочарованиями и нередко кончалось неудачей».
Вот и Лермонтову продолжение что-то не приходило «само собой, без принуждения», из живота. (Housman: "The seat of this sensation is the pit of the stomach”. – «Место проявления этого чувства находится где-то под ложечкой».) Но при этом было «смутное представление о стихотворении», и это представление надо было как-то одеть, потому что иначе оно не давало покоя. Вот что получилось в конце концов:
Когда волнуется желтеющая нива,
И свежий лес шумит при звуке ветерка,
И прячется в саду малиновая слива
Под тенью сладостной зеленого листка;
Когда росой обрызганный душистой,
Румяным вечером иль утра в час златой
Из-под куста мне ландыш серебристый
Приветливо кивает головой;
Когда студеный ключ играет по оврагу
И, погружая мысль в какой-то смутный сон,
Лепечет мне таинственную сагу
Про мирный край, откуда мчится он:
Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе,
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу Бога…
Лермонтов чешет затылок. Хорошо получилось или плохо? Стихотворение развилось из первой строки до нужного своего размера, оно состоялось. Хотя держится оно именно на первой строке. (И помнится из него, кстати, преимущественно эта первая строка – про желтеющую ниву.)
И все же почему в самом начале у поэта возникло чувство, что он уже знал эту строку раньше, а теперь вспомнил, почему появилось ощущение дежавю?
Чтобы ответить на этот вопрос, зайдем с другой стороны. Вот стихотворение Иннокентия Анненского «Опять в дороге»: