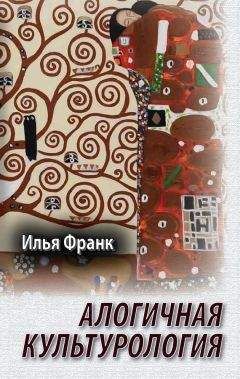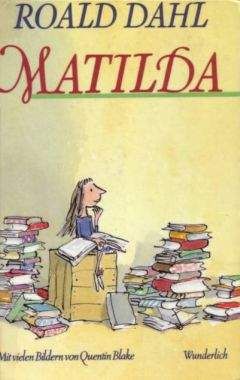И все же почему в самом начале у поэта возникло чувство, что он уже знал эту строку раньше, а теперь вспомнил, почему появилось ощущение дежавю?
Чтобы ответить на этот вопрос, зайдем с другой стороны. Вот стихотворение Иннокентия Анненского «Опять в дороге»:
Когда высо́ко под дугою
Звенело солнце для меня,
Я жил унылою мечтою,
Минуты светлые гоня…
Они пугливо отлетали,
Но вот прибился мой звонок:
И где же вы, златые дали?
В тумане – юг, погас восток…
А там стена, к закату ближе,
Такая страшная на взгляд…
Она все выше… Мы все ниже…
«Постой-ка, дядя!» – «Не велят».
При чем тут Анненский? И стихотворение непохоже. Дело в том, что эти два стихотворения прямо противоположны тематически: у Анненского мир превращается в страшную глухую стену, а у Лермонтова мир обращен к человеку (через свои элементы), «приветливо кивает» ему, «лепечет… таинственную сагу». И то, и другое ощущение знакомо, конечно, каждому. Отвлечемся еще дальше (к «желтеющей ниве» мы еще вернемся, вот увидите) и посмотрим, как воспринимает мир шекспировский Гамлет:
«Гамлет. Да, конечно. Дания – тюрьма.
Розенкранц. Тогда весь мир – тюрьма.
Гамлет. И притом образцовая, со множеством арестантских, темниц и подземелий, из которых Дания – наихудшее.
Розенкранц. Мы не согласны, принц.
Гамлет. Значит, для вас она не тюрьма, ибо сами по себе вещи не бывают ни хорошими, ни дурными, а только в нашей оценке. Для меня она тюрьма».
Здесь выражено острое чувство несвободы – человек стоит перед стеной. Человек в определенный момент своей жизни может вдруг ощутить, что он во всем ограничен, что природа и общество связали его, как Гулливера, тысячами мелких уз. Подобное чувство несвободы хорошо описано Евгением Николаевичем Трубецким в книге «Смысл жизни»:
«Прежде всего в жизни человечества мы найдем сколько угодно воспроизведений бессмыслицы всеобщего круговращения. В "Записках из мертвого дома” Достоевского однообразная, бессмысленно повторяющаяся работа изображается как жестокое издевательство над человеческим достоинством. По Достоевскому, для человека одно из самых жестоких наказаний – повторять без конца один и тот же бессмысленный ряд действий, например переносить взад и вперед кучу песку. Ужас жизни – в том, что она вообще поразительно напоминает это ненужное и оскорбительное для человеческого достоинства занятие. Возьмите жизнь рабочего на фабрике, которая вся проходит в бесчисленных повторениях одного и того же движения при ткацком или ином станке, жизнь почтового чиновника, которая посвящается бесчисленным воспроизведениям одного и того же росчерка пера под квитанциями заказных писем, или же, наконец, жизнь "мальчика при лифте” в большой гостинице, который с утра до вечера и с вечера до утра возит жильцов сверху вниз и снизу вверх, и вы увидите, что существование этих людей, жизнь всех людей вообще оскорбительно похожа на нескончаемое вращение белки в колесе. Ибо всякая жизнь так или иначе воспроизводит в себе движение какого-либо без конца повторяющегося круга, которому она подчинена. Жизнь земледельца, который сеет, жнет, жнет и опять сеет без конца, подчинена кругу солярному, жизнь рабочего – кругу фабричного колеса, жизнь чиновника – круговращению огромного административного механизма. И в этом круговращении сам человек становится колесом неизвестно для чего вертящейся машины. Отличие его от белки – в том, что он обладает умом, способным сознавать свое унижение, и сердцем, которое о нем страдает и мучится».
Мы уже недавно говорили о круге или кольце как архетипах в поэтике Анненского и Блока. Здесь, у Трубецкого, мы видим социальное выражение этого архетипа. А вот он же у Бродского – в одном из стихотворений цикла «Колыбельная Трескового Мыса»:
Птица, утратившая гнездо, яйцо
на пустой баскетбольной площадке кладет в кольцо.
А еще мы говорили о натурализме. Натурализм – это стена, в которую упирается свобода человека. Посмотрите, как в начале романа «Тереза Ракен» Эмиля Золя атмосфера жизненного тупика сгущается в такую страшную стену:
«В конце улицы Генего, если идти от набережной, находится пассаж Пон-Нёф – своего рода узкий, темный проход между улицами Мазарини и Сенской. Длина пассажа самое большее шагов тридцать, ширина – два шага; он вымощен желтоватыми, истертыми, разъехавшимися плитами, вечно покрытыми липкой сыростью; стеклянная его крыша, срезанная под прямым углом, совсем почернела от грязи. В погожие летние дни, когда неумолимое солнце накаливает улицы, сюда проникает через свод грязной стеклянной крыши какой-то белесый свет, скупо разливающийся по проходу. А в ненастные зимние дни, туманными утрами, с крыши спускается на скользкие плиты густой мрак, – мрак беспросветный и гнусный. На левой стороне пассажа ютятся сумрачные, низенькие, придавленные лавочки, из которых, как из погреба, несет сыростью. Здесь расположились букинисты, продавцы игрушек, картонажники; выставленные вещи, посеревшие от пыли, вяло дремлют в сумраке; витрины, составленные из мелких стеклышек, отбрасывают на товары расплывчатые зеленоватые отсветы; за витринами еле видны темные лавочки – какие-то мрачные каморки, в которых движутся причудливые тени. Справа по всей длине пассажа тянется стена, на которой лавочники пристроили узкие шкафчики: здесь на тонких полочках, выкрашенных в отвратительный коричневый цвет, лежат какие-то невообразимые товары, выставленные лет двадцать тому назад. В одном из шкафов разместила свой товар торговка фальшивыми драгоценностями; она продает колечки по пятнадцать су, которые заботливо разложила на голубом бархатном щитке в ларце из красного дерева. Над витринами высится стена – черная, кое-как оштукатуренная, словно покрытая проказой и вся исполосованная рубцами».
Мы недавно расспрашивали стихотворения об их модели. Но можно то же самое проделать и с прозаическим произведением. Этот текст Золя, с одной стороны, описывает нам конкретное малопривлекательное место в Париже, конкретные неприятные детали и конкретную стену, с другой же стороны, рассказывает о своей поэтической модели, о том, как живут в ней детали-элементы, о стене как поэтическом архетипе.
Так что это за стена, если зреть в корень? Золя считал, что все поступки человека предопределены средой, что человеческая жизнь развивается по законам, аналогичным или даже идентичным общим законам природы. Что человеческая психика полностью определяется, с одной стороны, наследственностью, с другой стороны, влиянием извне. Эти законы Золя и хотел показать. Правда, в романе «Тереза Ракен» есть кое-что, что нарушает безжизненную плоскость стены, а именно страшный взгляд свекрови, матери мужа Терезы Ракен. Она парализована, ничего не может сказать или сделать (символ полной несвободы человека), но у нее остался обличающий взгляд, который преследует сноху, замешанную в убийстве ее сына. К страшному взгляду как поэтическому архетипу мы, возможно, еще вернемся. В любом случае вы можете прочесть о нем в моей книжке «Портрет слова». Пока же послушаем героя повести Достоевского «Записки из подполья»:
«Какая каменная стена? Ну, разумеется, законы природы, выводы естественных наук, математика. Уж как докажут тебе, например, что от обезьяны произошел, так уж и нечего морщиться, принимай как есть. <…> "Помилуйте, – закричат вам, – восставать нельзя: это дважды два четыре! Природа вас не спрашивается; ей дела нет до ваших желаний и до того, нравятся ль вам ее законы или не нравятся. Вы обязаны принимать ее так, как она есть, а следственно, и все ее результаты. Стена, значит, и есть стена… и т. д., и т. д.” Господи Боже, да какое мне дело до законов природы и арифметики, когда мне почему-нибудь эти законы и дважды два четыре не нравятся? Разумеется, я не пробью такой стены лбом, если и в самом деле сил не будет пробить, но и не примирюсь с ней потому только, что у меня каменная стена и у меня сил не хватило».
Оказавшись перед стеной, человек или смиряется, или бунтует. Герой Достоевского выбирает бунт:
«Мало того: тогда, говорите вы, сама наука научит человека (хоть это уж и роскошь, по-моему), что ни воли, ни каприза на самом-то деле у него и нет, да и никогда не бывало, а что он сам не более, как нечто вроде фортепьянной клавиши или органного штифтика; и что, сверх того, на свете есть еще законы природы; так что все, что он ни делает, делается вовсе не по его хотенью, а само собою, по законам природы. Следственно, эти законы природы стоит только открыть, и уж за поступки свои человек отвечать не будет и жить ему будет чрезвычайно легко. Все поступки человеческие, само собою, будут расчислены тогда по этим законам, математически, вроде таблицы логарифмов, до 108 000, и занесены в календарь; или еще лучше того, появятся некоторые благонамеренные издания, вроде теперешних энциклопедических лексиконов, в которых все будет так точно исчислено и обозначено, что на свете уже не будет более ни поступков, ни приключений. Тогда-то, – это все вы говорите, – настанут новые экономические отношения, совсем уж готовые и тоже вычисленные с математическою точностью, так что в один миг исчезнут все возможные вопросы, собственно потому, что на них получаются всевозможные ответы. Тогда выстроится хрустальный дворец. <…> Ведь я, например, нисколько не удивлюсь, если вдруг ни с того ни с сего среди всеобщего будущего благоразумия возникнет какой-нибудь джентльмен с неблагородной или, лучше сказать, с ретроградной и насмешливою физиономией, упрет руки в боки и скажет нам всем: а что, господа, не столкнуть ли нам все это благоразумие с одного разу, ногой, прахом, единственно с тою целью, чтоб все эти логарифмы отправились к черту и чтоб нам опять по своей глупой воле пожить! Это бы еще ничего, но обидно то, что ведь непременно последователей найдет: так человек устроен. И все это от самой пустейшей причины, об которой бы, кажется, и упоминать не стоит: именно оттого, что человек, всегда и везде, кто бы он ни был, любил действовать так, как хотел, а вовсе не так, как повелевали ему разум и выгода; хотеть же можно и против собственной выгоды, а иногда и положительно должно (это уж моя идея). Свое собственное, вольное и свободное хотенье, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная иногда хоть бы даже до сумасшествия, – вот это-то все и есть та самая, пропущенная, самая выгодная выгода, которая ни под какую классификацию не подходит и от которой все системы и теории постоянно разлетаются к черту. И с чего это взяли все эти мудрецы, что человеку надо какого-то нормального, добродетельного хотения? С чего это непременно вообразили они, что человеку надо непременно благоразумно выгодного хотенья? Человеку надо – одного только самостоятельного хотенья, чего бы эта самостоятельность ни стоила и к чему бы ни привела».