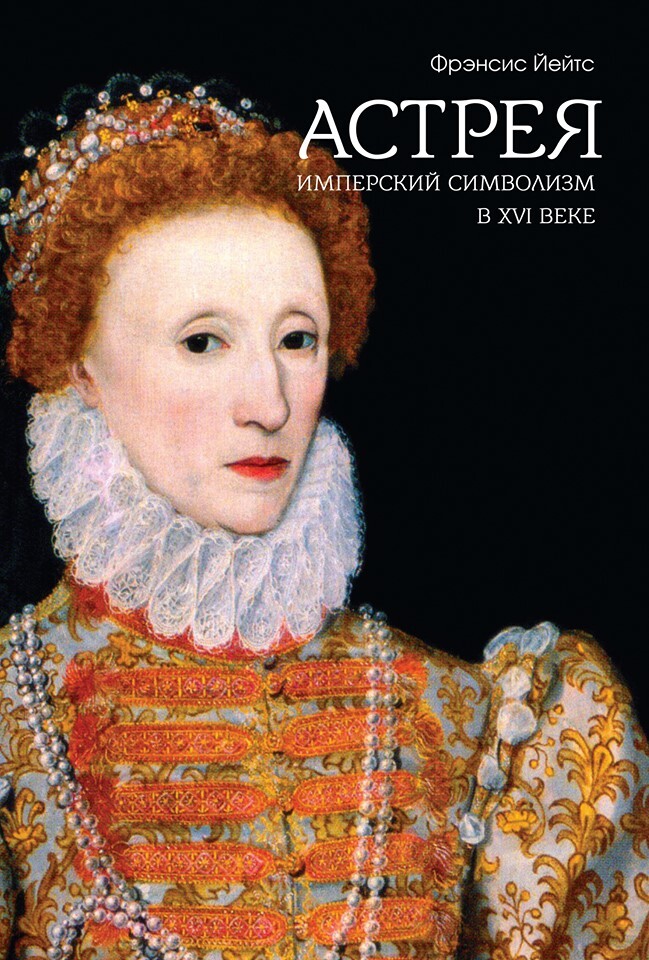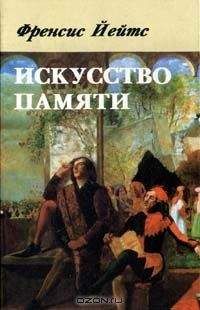«Метафизики» Аристотеля), миф волнует нас больше всего, поскольку он создается на основе удивительного 134.
То, что мы здесь узнали, и в самом деле необычно. Ведь схоластика в своей приверженности рациональному и абстрактному как предметам, наиболее подобающим разумной душе, отвергала метафору и поэзию, относящиеся к более низкому уровню воображения. Грамматика и Риторика, имевшие дело с такими предметами, должны были отступить перед госпожой Диалектикой. И все эти мифы о древних богах, к которым поэзия имела непосредственное отношение, весьма порицались с точки зрения морали. Затронуть, взволновать воображение с помощью метафоры – значит воспользоваться суггестивным приемом, идущим вразрез со схоластическим пуританством, внимание которого приковано к будущей жизни, к Аду, Чистилищу и Раю. И все же, хотя искусную память мы должны практиковать как часть благоразумия, правила образов допускают применение метафоры и элементов мифа, если учесть ту силу, с которой они способны нас взволновать.
И теперь на сцену выходят imagines agentes в том самом виде, в каком они описаны у Туллия 135. Необычайно прекрасные или отвратительные, в коронах и пурпурных одеяниях, изуродованные и перепачканные кровью или красной краской, комичные или забавные, – они, как актеры из‐за кулис, неприметно пробиваются из античных времен на страницы схоластического трактата о памяти как части благоразумия. В заключении подчеркивается, что основанием для выбора таких образов является то, что они производят «сильное волнение» и благодаря этому проникают в душу 136.
В споре о том, следует ли высказаться за или против искусной памяти, вердикт, вынесенный в строгом соответствии с правилами схоластического исследования, звучит следующим образом:
Мы утверждаем, что ars memorandi, которому учит Туллий, есть наилучшее, и особенно для запоминания предметов, относящихся к жизни и суждению (ad vitam et iudicum), и такая (то есть искусная) память свойственна нравственному человеку и оратору (ad ethicum et rhetorem), потому что, коль скоро действо человеческой жизни (actus humanae vitae) состоит из частей, необходимо, чтобы оно запечатлевалось в душе посредством телесных образов; без их помощи оно не сохранилось бы в памяти. Поэтому мы утверждаем, что из всего, что относится к благоразумию, самым необходимым является память, потому что мы от прошедшего направляемся к настоящему, и нет иного, окольного пути 137.
Таким образом, искусная память добилась морального триумфа; вместе с благоразумием она восседает в колеснице, которой правит Туллий, погоняющий двух своих коней – «Первую» и «Вторую Риторику». И если благоразумию придан удивительный и необычный телесный образ, например образ женщины с тремя глазами, напоминающими о том, что ее взору доступны прошлое, настоящее и будущее, то это соответствует правилам искусной памяти, которые рекомендуют metaphorica для запоминания propria.
Как явствует из De bono, Альберт в своих доводах в пользу искусной памяти во многом полагается на различие между памятью и припоминанием, описанное Аристотелем. Он внимательно изучил трактат De memoria et reminiscentia, к которому составил комментарий и где обнаружил, как ему представлялось, изложение того же самого вида искусной памяти, который описан у Туллия. И действительно, из предыдущей главы нам известно, что, снабжая примерами свои аргументы, Аристотель ссылается на мнемонику.
В комментарии к De memoria et reminiscentia 138 Альберт излагает свой «раздел психологии» (более подробно описанный им в сочинении De anima и, несомненно, выведенный из учений Аристотеля и Авиценны), в котором чувственные впечатления проходят различные стадии от sensus communis до memoria, подвергаясь постепенной дематериализации в ходе этого процесса 139. Проводимое Аристотелем различение между памятью и припоминанием он развивает, отделяя память, которая хотя и более духовна, чем первичные способности, остается все же в чувственной части души, – от припоминания, которое относится к интеллектуальной ее части, хотя и все еще хранит отпечатки телесных форм. Таким образом, процесс припоминания требует, чтобы вещи, которые нужно вспомнить, выходили за пределы следующих одна за другой способностей чувственной части души и достигали владений различающего интеллекта, где и совершается припоминание. В этом месте Альберт неожиданно заводит речь об искусной памяти:
Те, кто стремится к припоминанию (то есть к достижению чего-то более духовного и интеллектуального, чем простое воспоминание), удаляются от уличного света в тень уединенности: ведь в уличном свете образы чувственных вещей (sensibilia) рассеиваются, а движение их беспорядочно. В полутьме же они собираются в единое целое и двигаются упорядоченно. Вот почему Туллий в ars memorandi, входящей во «Вторую Риторику», предписывает нам найти или вообразить темные, слабо освещенные места. А поскольку для припоминания требуется не один, а множество образов, нам следует вообразить множество подобий и объединить сочетанием образов то, что мы хотим сохранить в памяти или воспроизвести в ней (reminisci). Например, если мы хотим запомнить то, что вменялось нам в вину на судебном процессе, мы должны представить себе барана с огромными рогами и яичками, приближающегося к нам во тьме. С помощью рогов в памяти запечатлеются наши обвинители, а с помощью яичек – свидетельские показания 140.
Такой баран нагонит страху на кого угодно! Как удалось ему вырваться из образа судебного процесса, чтобы теперь кружить во тьме, пугая встречных своими рогами? И почему правило, гласящее, что места должны быть не слишком освещенными, в сочетании с правилом, в котором говорится, что запоминать следует в тихих, спокойных местах 141, порождает этот мистический страх и уединенность, где sensibilia объединяются и становится виден их порядок? Если бы речь шла об эпохе Ренессанса, а не о средних веках, мы могли бы спросить, не подразумевает ли здесь Альберт зодиакальный знак Овна, объединяющий при помощи магических звездных образов содержимое памяти. Но, возможно, он просто переусердствовал, упражняя свою память по ночам, когда всюду разлито молчание, как советовал Марциан Капелла, и потому образ судебного процесса принял у него столь странные очертания.
Еще одна особенность, отличающая комментарий Альберта к De memoria et reminiscentia, состоит в упоминании о связи памяти с меланхолическим темпераментом. По известной теории темпераментов, меланхолия, имеющая сухую и холодную природу, благоприятствует памяти, так как меланхолик прочно усваивает впечатления, получаемые от образов, и удерживает их в памяти дольше, чем обладатели других видов темперамента 142. Но, говоря о типе меланхолического темперамента, наделенного reminiscibilitas, Альберт имеет в виду не обычную меланхолию. Он утверждает, что способность к припоминанию более всего присуща меланхоликам, чью меланхолию Аристотель «в книге Problemata» относит к типу fumosa et fervens («дымящаяся и пламенеющая»).
Таковы те, кому свойственны случайные проявления меланхолии, при ее смешении с сангвиническим и холерическим (темпераментами). Phantasmata волнуют этих людей более,