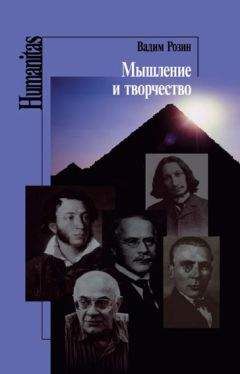И еще одно наблюдение подтверждает эзотерический характер усилий Августина. Эзотерик постоянно вынужден констатировать противоречия между своими идеальными устремлениями и реальными желаниями и привычками (по идее, он всегда должен решительно становиться на сторону первых, однако не всегда это получается). Так, Августин, рассказывая о том, как он пришел к вере, вспоминает, что его душа отказывалась подчиняться самой себе, но это, по мнению Августина, не означает, что в человеке есть две разные души – добрая и злая. «Я одобрял одно, – сетует Августин, – а следовал другому… Тело охотнее подчинялось душе, нежели душа сама себе в исполнении высшей воли своей, в одной и той же субстанции моей, тогда как, казалось, достаточно было бы одного хотения для того, чтобы воля привела его в действие… Но да исчезнут от лица Твоего, Боже… те, которые, видя две воли в борьбе духа нашего, утверждают, что в нем существуют два духовных начала противоположного естества, одно доброе, а другое злое. Питая такие нечестивые мысли, они сами признают себя злыми; между тем могли бы быть добрыми, если бы отказались от этих мыслей» [1, с. 108–109; 30, с. 418].
Еще раз обратим внимание: вполне в духе эзотеризма рефлексию души и своего религиозного опыта Августин оборачивает в сакральное и наоборот. Например, окончательный выбор в пользу Бога Августин объясняет тем, что Бог его «выкупил»: «Я решил пред очами Твоими не порывать резко со своей службой, а тихонько отойти от этой работы языком на торгу болтовней… уйти, как обычно, в отпуск, но не быть больше продажным рабом: я был Тобой выкуплен» [1, с. 113]. В этом же ключе можно понять и замечание Неретиной. «Повторим, – пишет она, – через исследование внутренних интеллектуальных суждений, представлений, через анализ того, что есть органы чувств, память, образы, через проблематизацию времени, слова Августина показывают бытие Бога» [67, с. 141].
Но эзотеризм был формой, сущность же творчества Августина в нашей интерпретации сводится к построению схем и образов средневековой личности, ориентированной на Священное писание и работу по перестройке ветхого человека. Особенностью средневековой личности является конкретная диалектика свободы и необходимости, суть которой состояла в признании в рамках корпоративных отношений и веры в Бога личной свободы человека.
«Даже самые высокие права, – пишет Х. Ортега-и-Гассет, – оказывались тем самым прямым следствием личной власти. Таким образом, древнеримское и нынешнее представление, что человек от роду наделен всеми правами, – полная противоположность германскому духу. Последний неизбежно нес на себе отпечаток выдающейся личности. Личности, а не какого-то “индивида”. Сначала права требовалось завоевать, потом – отстоять» [74, с. 161]. «Противник идеи личности в Средневековье, – комментирует это высказывание Неретина, – может воскликнуть: вот-де, по Ортеге получается, что личность зависит исключительно от себя, а как же Бог, в Котором человек всецело заключен? Но не стоит упрощать ни Ортегу, ни Августина. Человек осознает, что он всецело в руке Божией, если сам, исключительно сам, направит свою волю, душу, интеллект на самопознание, в результате которого он обнаруживает себя лицом к лицу с Богом и лишь в конце концов постигает, что он – в руке Божьей. Без этого самоначинания ни о каком истинном христианстве речи нет и не может быть, как не может быть средневекового человека без свободы воли, о чем уверенно пишет Августин» [67, с. 163].
Несколько иначе, чем Августин, проблему свободы и необходимости решает Северин Боэций. В последнем своем произведении «Утешение философией», написанном перед смертью в тюрьме, он задается вопросом, почему Бог допускает несправедливость. Ставится этот вопрос, имеющий непосредственное отношение к судьбе Боэция, при обсуждении проблемы природы «случая», которому при наличии Божественного провидения вроде бы не остается места. «Ярче и определеннее, – пишет Боэций, – очерчивается долг мудрости, когда блаженство правителя каким-то образом распространяется и на подвластные народы. Так бывает, когда тюрьма, смерть и другие наказания, налагаемые законом, обращаются против наиболее преступных граждан, ведь они для этого и созданы. Если же происходит обратное, и добрые люди пожинают наказания за чужие злодеяния, а награды, причитающиеся добродетели, отнимают дурные, – это вызывает большое удивление, и я желаю знать от тебя, что является причиной такой несправедливости и беззакония. Я бы меньше поражался этому, если бы полагал, что в мире правит слепая случайность. Но мое изумление не имеет границ, ибо Бог, управляющий всем, вместо того чтобы дать добрым сладкое, а злым – горькое, напротив, добрых наделяет суровой участью, а злых – такой, какую они желают. Если это не порождается определенными причинами, то, следовательно, вызывается случайностью» [67, с. 171].
Разрешение этой коллизии Боэций видит в особой трактовке случая не как реальности, а как «знака провидения», значение которого скрыто от человека. Тем не менее, осуществляя разумный, нравственный поступок, характеризующийся направленностью к Благу (Богу), человек перестает быть рабом случая. Смысл провидения состоит, по Боэцию, не в том, чтобы сообщать вещам необходимость, при которой исключается сама возможность случая и все возвращается к идее судьбы, а в том, чтобы быть знаком необходимости их осуществления в грядущем… Сущность знака – обозначать скрытое, но не творить сущности означаемого. «Следовательно, то, что произойдет в будущем, не является необходимым до того момента, когда происходит, а не обретя существования, не содержит необходимости появления в грядущем»… Идея поступка как спасения души становится для (Боэция) него одной из важнейших. Поступок опять же есть поступь свободной воли наделенного разумом существа. Случай же зависит от того, какой силой разума наделено это существо, поскольку оно «обладает свободой желать или не желать, однако не в равной степени» [67, с. 176–177]. Но вернемся к Августину.
Наметив схемы и образы средневековой личности, Августин, с одной стороны, создал условия для конституирования и формирования этой личности, с другой – принципиальную возможность ее мыслить. Действительно, становление личности предполагает формирование самостоятельного, личностного поведения человека (как я подчеркнул, в специфически средневековом смысле). В свою очередь, самостоятельное поведение невозможно без особой семиотики и представлений, задающих «образ себя». Схемы и образы средневековой личности, намеченные Августином, как раз и выполняют эту функцию, то есть задают «образ себя», с помощью которого средневековый человек начинает строить самостоятельное поведение и устанавливать отношения с другими людьми и властью. На основе этих схем и образов средневековый человек также осознает себя и рассуждает по поводу себя, получая новые знания.
Добавление. В творчестве Платона и Августина философия и эзотеризм еще слиты, поскольку не сформировалась специфическая рефлексия эзотерического мироощущения и опыта. В трактатах Псевдо-Дионисия Ареопагита, написанных в первой половине VI в., мы находим уже достаточно развитое эзотерическое учение (Неретина относит его к мистическому богословию). Псевдо-Дионисий ясно формулирует три основных положения эзотеризма: о том, что существуют две реальности – обычный мир и подлинный (Бог), причем ценностью обладает именно второй, что основная цель жизни – обретение подлинной реальности, наконец, что условием этого является преобразование и преображение человека, включающие духовную и психотехническую работу.
«Божество, – пишет Псевдо-Дионисий, – превыше любого слова и любого познания, и вообще пребывает по ту сторону бытия и мышления» [Цит. по: 67, с. 202]. В отличие от обычного мира подлинный, то есть Бог есть нечто «совершенно исключающее какое-либо изменение, свойство, жизнь, воображение, представление, наименование, разум, мысль, мышление, сущность, состояние, основание, предел, беспредельность, то есть все, что присуще сущему» [67, с. 202–203][2].
Цель жизни человека, идущего по эзотерическому пути, его Псевдо-Дионисий называет «посвященным» – «обожение» и обретение «сверхразумного («истинного, чистого и единообразного») знания». При этом подчеркивается, что посвященный не должен передавать свое знание непосвященным, то есть это знание именно «эзотерическое» (тайное). «Только смотри, чтобы об этих вещах не услышал кто из непосвященных; так я называю людей, погрязших среди сущего, воображающих, будто над сущим нет ничего пресущественного, и мнящих собственным разумом понять Того, Кто “мрак сделал покровом своим”» [67, с. 200].
Чтобы обожиться, посвященный, с одной стороны, должен направить все силы своей души на решение этой задачи (как пишет Псевдо-Дионисий, «напряженно устремиться к таинственным созерцаниям», что совершается «в неудержимом, отрешенном и чистом исступлении из самого себя и из всего сущего» [67, с. 207]), с другой стороны, пройти ряд ступеней работы и преображения.