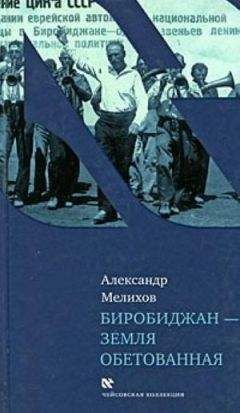интеллигенции всех стран и континентов до тех пор, покуда средний интеллигент не превратится либо в настоящего героя, уже не нуждающегося в красивом оправдании своей слабости, либо в героя Зощенко, не видящего в своем положении ровно ничего унизительного.
Вознамерившись писать о Гаршине, я протянул руку к полке, где уже и не чаял дождаться своего часа линялый синий томик эпохи волюнтаризма, – и не обнаружил его. Ни там, ни где-либо еще.
А поскольку литературное творчество располагает к тому, что психиатры именуют бредом значения (стремление во всем усматривать скрытый символический смысл), то это таинственное исчезновение я немедленно воспринял как знак времени, аннигилировавшего знаменитого некогда писателя. Но не беда, книжный рынок и впрямь кое-что расставил по своим местам: сотни тысяч, если не миллионы, наших сограждан перестали притворяться, что любят литературу, и теперь в магазинчиках старой книги можно по демпинговым ценам приобрести любых классиков, из-за подписки на которых при старых господах разыгрывались целые драмы и едва ли не драки.
Однако Гаршина не нашлось и там.
Лишь где-то через неделю в картонной коробке с бумажным отрепьем мне удалось отыскать оборванную книжонку ценой в коробок спичек, изданную в Иркутске во времена застоя тиражом аж 200 000 экземпляров. Тирания не боялась заваливать страну сочинениями самого возвышенного из врагов всяческой тирании…
Правда, с обеззараживающими предисловиями.
Всеволод Михайлович Гаршин родился 2 февраля 1855 года в Бахмутском уезде (ныне Донецкая область) в небогатой дворянской семье. Отец его был военный, офицер кирасирского полка, участник Крымской войны, и детство Гаршина было наполнено впечатлениями о военных событиях и полковой жизни. Большое влияние на воспитание Гаршина оказал его домашний учитель В. П. Завадский – революционер, участник тайного общества. С детских лет Гаршин вошел в круг интересов передовых демократически настроенных людей.
Массовому читателю незачем было знать, что отставной ротмистр кирасирского полка страдал, а может быть, и наслаждался безобидным помешательством – конструированием «воздушной железной дороги»: по комнатам были протянуты веревочки, по которым катались маленькие вагончики. Он даже возил свое изобретение в Харьков показывать специалистам, нашедшим, увы, что такая конструкция «неприменима и неудобна». Тем более не афишировалось, что мать Гаршина, прихватив малютку, бежала с передовым домашним учителем, а несчастный отсталый отец написал жалобу в Третье отделение, приложив к ней личное обращение к «Искандеру» – Герцену, считая его нигилистическую пропаганду причиной своего несчастья: «Оставив свою отчизну Русь, эту дивную, целомудренную, роскошную красавицу, Вы, как хищный коршун…»
При всей смехотворности этого письма, оно навело-таки харьковскую полицию на реальное тайное общество, одним из организаторов которого и впрямь оказался Завадский. Соблазнитель был арестован, а ребенка в течение двух месяцев родители рвали друг у друга из рук, что наверняка ранило его уж никак не менее, чем будущий «гнет самодержавия», – ведь для детей защитой от ужасов мироздания служат именно папа с мамой, о существовании же государства он в самые важные годы душевного роста и не догадывается.
Тем не менее именно гнетом самодержавия советское литературоведение объясняло даже будущую душевную болезнь Гаршина – традиция, которой положил начало, увы, едва ли не тот же блистательный Герцен, порой, казалось, забывавший, что социальная жизнь порождает лишь один из рукавов неиссякаемой реки человеческих страданий. После гибели Гаршина авторитетные психиатры на материале семи поколений раскрыли тяготевшее над его родом генетическое проклятие – череду психических болезней, для которых самоубийство является отнюдь не исключительным способом прекращения душевных мук: идея бессмысленного античного рока лучше выражает человеческую участь, чем паранаучные формулы социального детерминизма.
К самому Гаршину медицинский рок впервые постучался в семнадцатилетнем возрасте: «Однажды разыгралась страшная гроза. Мне казалось, что буря снесет весь дом, в котором я тогда жил. И вот, чтобы воспрепятствовать этому, я открыл окно, – моя комната находилась в верхнем этаже, – взял палку и приложил один ее конец к крыше, а другой – к своей груди, чтобы мое тело образовало громоотвод и, таким образом, спасло все здание со всеми его обитателями от гибели». Вот тут-то и выразилась высота души будущего защитника всех страждущих: даже в бреду он не бросился спасаться сам, но попытался, пусть и ценой жизни, спасти других.
Как не без тонкости заметил известный историк литературы Семен Афанасьевич Венгеров, «трудно было определить, где кончается высокий строй души и где начинается безумие».
По окончании гимназии в 1874 году Гаршин поступил в Петербурге в Горный институт. Будучи студентом, он сблизился с кружком молодых художников-передвижников, представителей передового направления в живописи.
В эти годы он пишет стихи, заставляющие подозревать не только отсутствие литературных способностей, но и отсутствие литературного вкуса.
Но если сердце злобой разгорится
И мстить захочет слабая рука —
Я не могу рассудку покориться,
Одолевает злобная тоска,
И я спешу в больных и буйных звуках
Всю желчь души истерзанной излить,
Чтоб хоть на миг один забыть о муках
И язвы сердца утолить.
Возможно, правда, подобной риторики требовал забытый ныне «передовой» канон. Обнадеживает и самокритичность:
Нет, не дана мне власть над вами,
Вы, звуки милые поэзии святой;
Не должен я несмелыми руками
Касаться лиры золотой!
Впоследствии в «Художниках» (1879 г.) Гаршин выдвинул требование самоотверженной борьбы искусства против зла и угнетения и резко осудил теорию «искусства для искусства».
Если только не осудил заодно «искусство для счастья».
И в самой его повести почти нет живописи, она построена как череда внутренних монологов «Дедов» – «Рябинин» – «Дедов» – «Рябинин», и ни Дедов, ни Рябинин не имеют ни внешности, ни индивидуальных «речевых характеристик», и вообще в их внутренней речи, на самом-то деле всегда переполненной побочными ассоциациями, поначалу нет практически ничего, не относящегося к спору между искусством «чистым» и «утилитарным». Спору, ведущемуся в предельно академическом тоне, без эмоциональных подъемов и спадов.
Начинающий художник Дедов любуется зримой красотой мира: «Очень красивы эти горячие тоны освещенного заходящим солнцем кумача». А его однокурсник Рябинин, звезда академии, сомневается, имеет ли искусство вообще какое-нибудь значение: «Я не видел хорошего влияния хорошей картины на человека». Толстой впоследствии зайдет еще дальше: стремясь к красоте, мы удаляемся от добра…
Впрочем, дальше Гаршина, пожалуй, и не зайти. Мятущийся Рябинин пишет рабочего-«глухаря», который «садится в котел и держит заклепку изнутри клещами, что есть силы напирая на них грудью, а снаружи мастер колотит по заклепке молотком», – «извольте-ка целый день выносить грудью удары здоровенного молота, да еще в котле, в