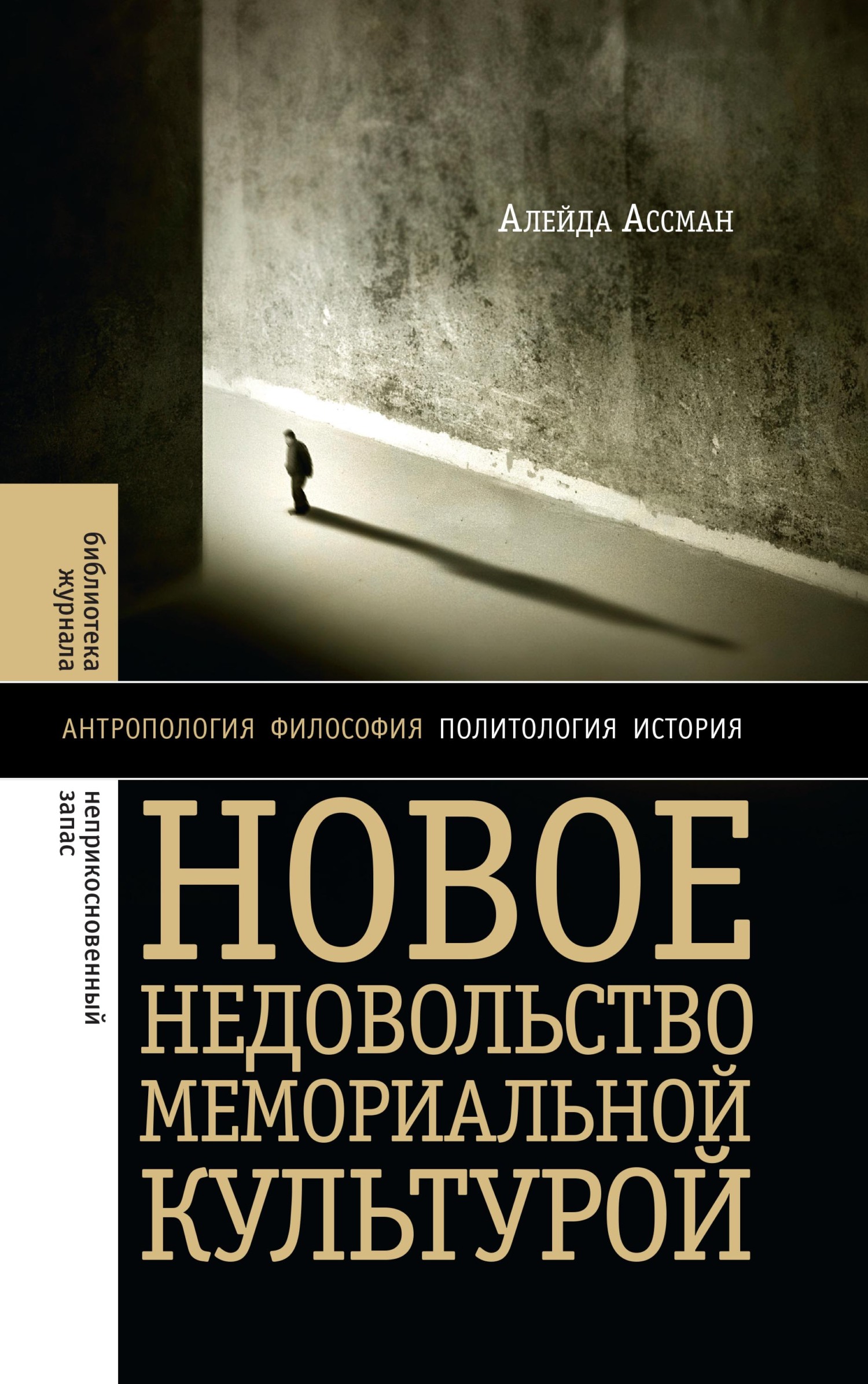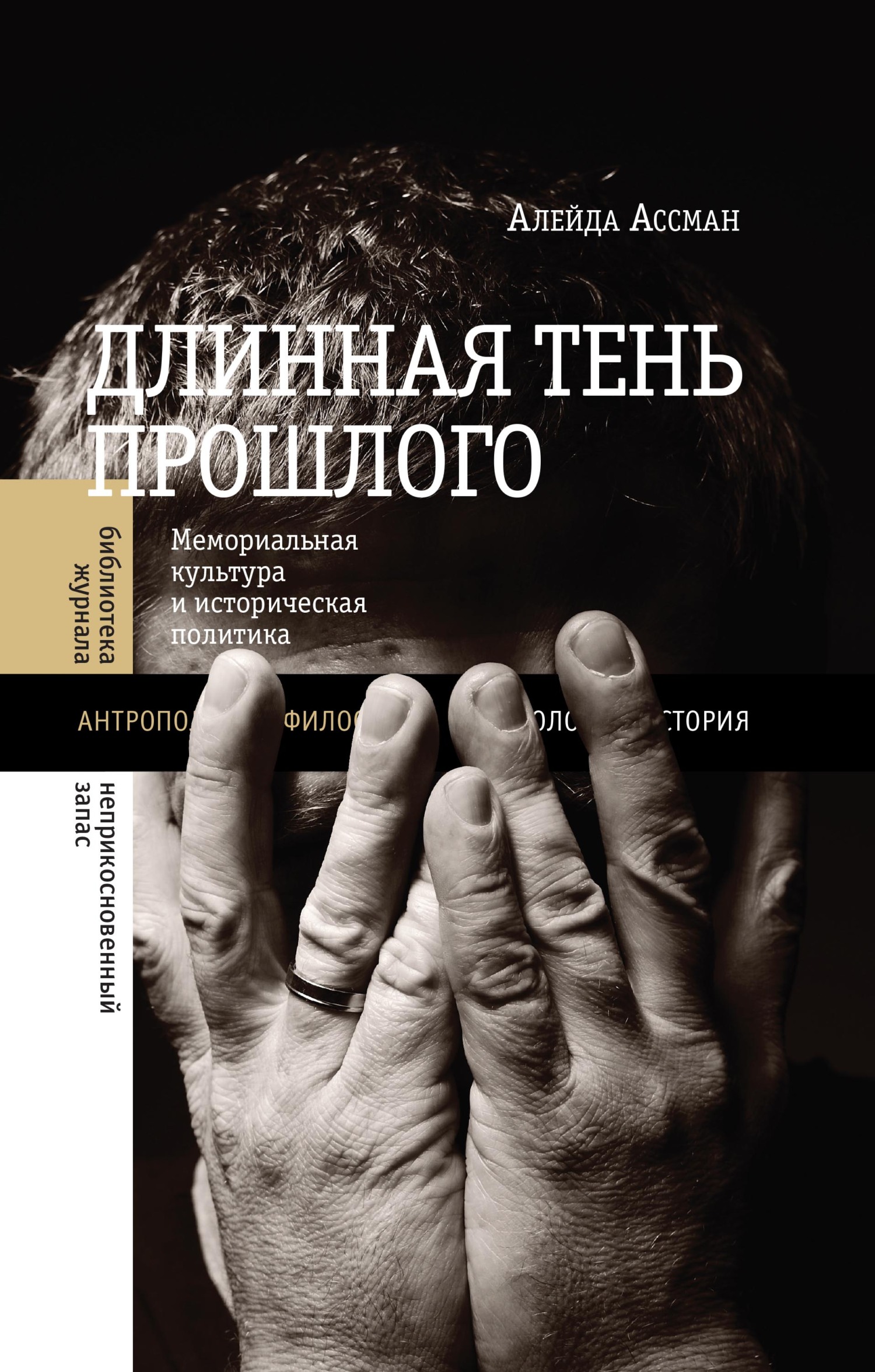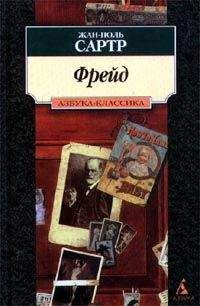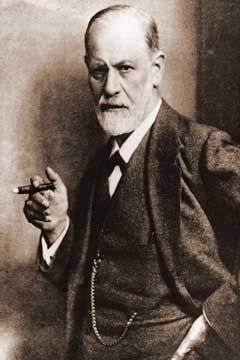отношение к Холокосту должно быть иным, нежели к любым другим событиям прошлого, а потому сохраняет память о Холокосте в конструкции собственной культурной идентичности. Что бы ни говорилось о Холокосте, нельзя отрицать кристаллизацию этого события в качестве исторического и уже транснационального мемориального символа. Вслед за «спором историков», в 2000 году, состоялась международная Стокгольмская конференция, посвященная Холокосту; она подтвердила обязательство реализовать общеевропейский политический проект сохранения памяти об уничтожении европейского еврейства. Поэтому попросту невозможно представить себе, чтобы немцы именно теперь отказались от мемориальной культуры.
Мемориальная культура и историзация, прошлое и будущее вовсе не исключают друг друга, а являются легитимными и взаимодополняющими формами отношения к прошлому. Представление о том, что какое-то событие прошлого не проходит, а «возвращается» в настоящее, приобретает вид коммеморативного императива для будущего, однако такое представление чуждо сторонникам теории модернизации с их культурной ориентацией исключительно на будущее и новизну. Поэтому они не признают связь с прошлым посредством традиций, коллективной принадлежности или исторической ответственности, которые ограничивают свободу индивидуума [147]. Историческая цезура Холокоста, вошедшая в сознание человечества не сразу после Второй мировой войны, а лишь с большим, полувековым запозданием, имеет еще одно значение. Мы заглянули в историю страданий таких чудовищных масштабов, что она касается не только историков, но устанавливает отношения отождествления с жертвами, преступниками и всеми так или иначе причастными к этой истории. Данная историческая связь вышла на уровень транснациональной памяти, которая распахнула и другие врата в прошлое, благодаря чему прозвучали и были услышаны и иные истории преступлений, замалчивавшихся прежде. Это небывалое обращение к забытым, вытесненным из памяти или проигнорированным историческим преступлениям привело в настоящее время к радикальным и устойчивым изменениям в самосознании и социальном устройстве многих поставтократических и постколониальных обществ.
Практические аспекты немецкой мемориальной культуры
Я мыслил как ребенок: прошлое мне не нужно. Мне не приходило в голову, что прошлое может нуждаться во мне.
Джонатан Сафран Фоэр [148]
«Многое в исторической и мемориальной культуре выдохлось, окаменело, утратило собственное содержание – причем именно из-за своей фиксации на прошлом. …До сих пор считается, что сам факт преступления, совершенного нацистами в том или ином месте, заслуживает мемориальной таблички. Но это происходило повсюду в Германии и оккупированной Европе, поэтому познавательная ценность каждого отдельного случая, уменьшаясь, стремится к нулю. Развешивание по стране все новых мемориальных табличек, напоминающих даже спустя десятилетия о преступлениях национал-социализма, парадоксальным образом возвеличивает его ex negativo» [149].
Харальд Вельцер усматривал в локальной практике маркировки тех или иных мест опасную «диктатуру прошлого», отрицательно сказывающуюся на будущем. Локальные мемориалы, которые по инициативе активистов гражданского общества возникали и будут возникать впредь, являются важнейшей и одновременно наиболее неприметной сферой практической реализации немецкой мемориальной культуры. В нынешнем дискурсе, связанном с недовольством мемориальной культурой, эту сферу обычно отождествляют с вершиной пирамиды, то есть с официальным уровнем государственной исторической политики. Вновь и вновь подвергаются критике литургически-ритуальные формулы, которые, бесконечно повторяясь в памятные дни и на торжественных мероприятиях в центральных мемориалах, все более утрачивают изначальный смысл и потому кажутся в принципе фальшивыми. Но когда вся мемориальная культура сводится к официальному уровню, складывается впечатление, будто в мемориальной культуре мы имеем дело исключительно с «театрализованной коммеморацией», которую государство инсценирует для своих граждан. Формируется предвзятое, одностороннее представление о практиках, объединяемых понятием «мемориальная культура». Чтобы избежать этого, следует подробно рассмотреть «места памяти», создаваемые по инициативе «снизу». К сожалению, объем данной главы пришлось сократить, но все же она в известной мере характеризует масштабы затрагиваемого явления. Непросто посредством нескольких примеров продемонстрировать огромный вклад личных инициатив в развитие мемориальной культуры, которая является не только объектом государственной политики, но и проектом гражданского общества. Большинство участников дискурса о мемориальной культуре оставляет без внимания инициативы активистов гражданского общества, которые реализуются в городах и регионах Германии на общественных началах, собственными силами, без большого шума в СМИ. Здесь один город зачастую не знает, что делается по соседству, поскольку событие не освещается федеральными СМИ. Создается ложное впечатление, будто мемориальная культура существует в виде ритуалов исторически выдохшегося пиетета и представляет собой навязанную сверху программу, далекую от интересов и потребностей самого населения, а главное – лишенную непосредственного и ангажированного участия местного сообщества.
Тот, кто интересуется этими негромкими местными инициативами активистов гражданского общества, может с помощью Интернета найти информацию о немецких «местах памяти» и мемориалах у себя по соседству. Многое из того, что осуществляется по решению «сверху», нередко имеет долгую предысторию в виде спорных проектов местных активистов, хотя обычно об этом не говорится. В Германии наряду с центральным берлинским мемориалом жертвам Холокста существует разнообразный и расширяющийся спектр локальных мемориалов, подтверждающий высказывание историка Марианны Авербух: «Вся страна – мемориал». Понятие мемориальной культуры охватывает нечто гораздо большее, нежели государственные мемориалы и выступления государственных функционеров или публичных политиков; она опирается на живую активность гражданского общества, осуществляющуюся в виде бесчисленных исторических проектов, куда вовлечена и молодежь, которая таким образом соприкасается с немецкой историей в своем непосредственном окружении. Импульс для локальных инициатив рождается в конкретных населенных пунктах, жители которых слой за слоем открывают для себя свою историю.
Вельцер считает маркировку исторических мест такой же бессодержательной, как шаблонные риторические фразы. Они кажутся ему столь же ненужными и лишними, как голоса очевидцев исторических событий. Мысль о том, что познавательная ценность каждого отдельного случая стремится к нулю, можно перевернуть: познавательная ценность правды о Холокосте как абстрактной формулы стремится к нулю, зато локальные истории, которые обнаруживаются благодаря вскрытию исторических пластов, становятся для окрестных жителей конкретными, наглядными и привязанными к определенной топографике. Восстанавливая историческое событие, местные активисты рассказывают о нем другим, причем делают это как наследники преступного прошлого, с которым они эмпатически ощущают личную связь, – однако благодаря критической, просветительской деятельности они освобождаются от того соучастия в совершенных в прошлом преступлениях, которое продлевается безразличием или забвением.
4. Память о двух немецких диктатурах
Память о ГДР – особый немецкий путь?
В прошлом каждой нации есть события, которые не просто некогда произошли, но и ныне вызывают к себе исторический интерес. В силу высокой негативной значимости для национальной идентичности, для представлений нации о самой себе такие события остаются для многих поколений предметом общественного обсуждения, претендуя на заметное место в национальной истории. Непреходящая значимость определенных исторических эпох для немецкого коммуникативного и коммеморативного репертуара обусловлена их экстремальным насильственным характером: неправовое немецкое государство терроризировало