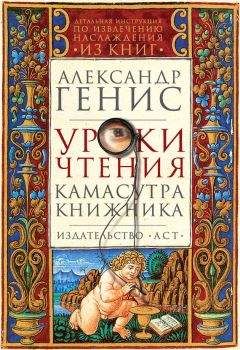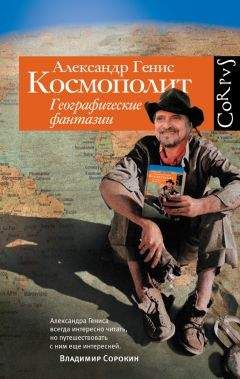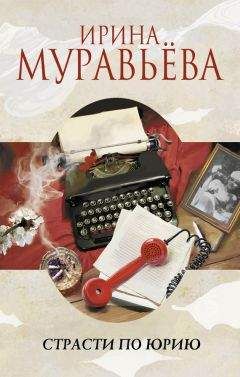Чтобы не бояться чужой литературы, автор должен изобрести свой, ничего не объясняющий, но всегда бьющий в точку способ чтения. Борхес читал сюжетами. Бродский сторожил неизбежную строку, Олеша искал в метафорах метаморфозу, Блок изобретал прилагательные: Веселое имя Пушкин. Но самым гениальным читателем был Мандельштам. Он же придумал физиологию чтения, поменявшую объект с субъектом: не мы читаем книгу, а она – нас: Наша память, наш опыт достаются ей в обладание, бесконтрольное и хищное.
Книга высасывает мозг из наших костей, начиная с черепа. Она меняет природу нашей природы – вкрадчиво и навсегда. Не забывайте, – напоминает автор, – что книгу мы получаем из рук действительности. И это значит, что книга – не платоновская идея, а аристотелевская вещь, состоящая из формы, материи и намерения. Книга приходит к нам вместе с обстоятельствами знакомства. По Мандельштаму, чтение – процесс, включающий окружающую реальность, а не исключающий ее, как это было в моей пожарке.
Со стороны следить за человеком с книгой все равно что смотреть, как сохнет краска. Но я не знаю ничего интересней, чем подглядывать за читающим Мандельштамом: Книга в работе, утвержденная на читательском пюпитре, уподобляется холсту, натянутому на подрамник.
Нанося быстрые, чтоб не отвлечься, удары кистью по этому холсту, Мандельштам создает портрет – не книги, а ее чтения. Он пишет его со всей глубиной феноменологического проникновения и с искусной легкостью импрессионистской техники. Так, увлекшись натуралистами, он цедит их скучную прозу. Я никогда не стану читать Палласа, но никогда не забуду, как это делал Мандельштам:
Я читаю Палласа с одышкой, не торопясь. Медленно перелистываю акварельные версты. Картина огромности России слагается у Палласа из бесконечно малых величин. В его почтовую карету впряжены не гоголевские кони, а майские жуки.
Шкловский сказал, что Мандельштам коллекционирует эхо, и в этом больше проницательности, чем упрека. Эхо – продукт сотрудничества голоса с пейзажем, например – горным. В каньонах Юты я слышал, как эхо переговариваются друг с другом так долго, что начинает казаться, будто они обладают сознанием, волей и зловещими намерениями. Оторвавшись от своего бесспорного источника, обычное эхо подчиняется изрезанному рельефу земли, а литературное – темным извилинам мозга. Не удивительно, что изначально чтение было магической процедурой, вызывающей из небытия нежить. У Мандельштама оно таким и осталось:
Вий читает телефонную книгу на Красной площади. Поднимите мне веки. Дайте Цека…
Мандельштам превращает чтение из прикладного искусства в обыкновенное: он складывает книгу в оригами.
* * *
В Нью-Йорке все пишут книги. Разумеется, кроме тех, кто снимает по ним фильмы. Но только попав на вечеринку высоколобых, я узнал, как отличить первых от вторых. Авторы носят свою книгу, как камень на шее.
– A memory stick, – объяснил мне один, когда я спросил про цепочку с пластмассовым черенком.
– Чтоб не потерять?
– Чтобы не расставаться!
Тут мне пришло в голову, что я сам – такая книга. Вернее, книга книг, с которой я часто себя путаю, потому что всегда ношу ее в себе.
В молодости боишься цитат, но к старости привыкаешь, что и они – тоже ты. Ведь даже те, кто не читают вовсе, обречены цитировать – фильмы, сплетни, врагов и родителей.
Примирившись с сидящей во мне книгой, я не тороплюсь ее листать, зная, что нужное явится само и кстати – как улика в детективе. Стоит отпустить вожжи, и воспоминание о прочитанном всплывает неточной рифмой. Якобы случайная и почти анонимная, она окрыляет опыт и открывает в нем второе дно.
Нося в себе записную книжку жизни, я не бываю одинок, чувствуя себя острием традиции, ее живым вектором. Это не эрудиция, скорее – анатомия, позволяющая идти к цели даже тогда, когда мы ходим по кругу. Моя любимая книга о чтении заканчивается словами запертого в Мордовии перипатетика:
Некоторые, – писал Синявский, – считают, что с Пушкиным можно жить. Не знаю, не пробовал. Гулять с ним можно.
Для кладбища тут слишком оживленно, – не удержался я. – А по нам – в самый раз, – ответил сербский прозаик, показывающий мне достопримечательности Воеводины.
Я не стал спорить, но не перестал удивляться, ибо повсюду шла стройка. Вокруг могил росли кирпичные стены, на крышах торчали антенны, к домикам тянулись провода, и двери запирал крепкий замок.
– У славян, – объяснил гид, – принято посещать могилы близких.
– И выпивать на них.
– Вот именно. А чтобы спиртное не грелось, пришлось поставить холодильник, а значит, провести электричество. Потом, чтобы не украли, запереть двери. Чтобы их повесить, нужны стены – и, заодно, крыша: переночевать, если перебрал. А там – телевизор: по вечерам скучно.
– Дом, который построил Джек.
– Скорее – дача.
– На костях?
– Это как считать, – уклончиво ответил хозяин, и я прикусил язык, вспомнив, что во время войны белградские газеты угрожали интервентам отрядом вурдалаков. Своим солдатам для безопасности обещали раздавать чеснок.
– Метафора, – отрезал Павич, когда я спросил его о заинтриговавшей меня публикации, и я не стал приставать, потому что в трудные дни он предлагал собрать кости всех сербов и выставить в столице – в защиту от НАТО.
На Балканах покойники так долго были в центре внимания, что когда вампиры других стран перебрались в кино, то здесь они остались на своем месте – возле кладбища.
В Риге мы часто там гуляли, предпочитая заброшенные, немецкие. Тут не мешали родственники. Старинный шрифт надгробий намекал на готический роман и массировал нервы. Мы ведь любим пугаться. Возможно, потому, что заложенный в наших генах страх потустороннего служит самым бесспорным доказательством существования той стороны.
Древность этого инстинкта выходит за видовые пределы. В юности, как все тогда, я читал повесть Поля Веркора “Люди или животные”. В ней ученые открыли приматов, оказавшихся промежуточным звеном между человеком и обезьяной. Чтобы понять, куда этих существ отнести, герой отправился в джунгли и, найдя там могилы, доказал принадлежность полуобезьян к людям. Потом я узнал, что людьми можно считать и слонов, которые забрасывают ветками умерших родичей, и неандертальцев. Последние не только хоронили своих мертвецов, но и оставляли им букеты, составленные из специально подобранных цветов, далеко не всегда растущих поблизости друг от друга. (Палеоботаники сумели определить состав этой первобытной икебаны по сохранившейся пыльце.)
Выходит, что мертвые важнее живых, ибо они – критерий разума. Но если мы их так любим, то почему боимся?
* * *
Смерть не вписывается в жизнь. Одна слишком разительно отличается от другой. Мы живем постепенно, смерть внезапна. Даже тогда, когда ее ждут или торопят, смерть – квантовый скачок из естественного существования в никакое. Насколько это нам, живым, известно, люди умирают совсем не так, как живут. Мы – дети развития: медленно растем и стареем, седеем и лысеем, учимся и забываем. Но смерть прекращает эволюцию революцией. Мы умираем, как перегоревшая лампочка, а не сносившиеся тапочки. Жизнь не может сойти на нет, она прерывается разом. Парадоксы перестают работать. На этой дороге Ахилл догоняет черепаху и исчезает вместе с ней.
Встретившись с этим вызовом, религия – с трудом и не сразу – изобрела бессмертие, но и оно не отменяет смерть как переход из естественного в сверхъестественное состояние. То, с чем не справляется религия, достается ее младшему брату. Искусство растягивает смерть, делая ее предметом либо садистского, как в “Илиаде”, любования, либо психологического, как у Толстого, анализа. Плохие у него умирают необъяснимо внезапно, как это случилось с мешающей Пьеру и сюжету Эллен. Хорошие, как Андрей Болконский, мучаются, пока не прозреют. Но и эта, растянувшаяся на целый том агония, не отменяет мгновенного перехода.
Чтобы придать длительность самой смерти, надо почувствовать ее изнутри. Для живых такое возможно во сне или в подражающих ему книжках. О втором я знаю – из чужого опыта, о первом – из своего: однажды мне приснилось, что я застрелился. Пуля прошла сквозь череп и застряла возле уха. Я не почувствовал боли, только удар, и удовлетворенно заметил, как медленно засыпает сознание. Перед концом, однако, оно затормозило, и я с ужасом подумал, что промахнулся, хоть и приставил дуло к виску. Перспектива жизни вместо смерти так меня напугала, что я проснулся. Сердце колотилось, словно свихнувшиеся часы, и сам я был не лучше. Зато кошмар помог мне лучше понять тех авторов, которые сны не смотрят, а списывают.
Никакое зло, – писал Сенека, – не велико, если оно последнее. Пришла к тебе смерть? Она была бы страшна, если бы могла оставаться с тобою, она же или не явится, или скоро будет позади, никак не иначе.