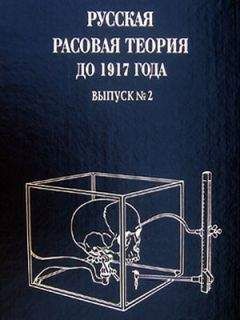6. Есть средство, которое дозволяетъ и въ текущей литературѣ схватить руками ея зависимость отъ iудейства, не заботясь объ единичныхъ бездарностяхъ въ тучѣ этихъ мелкихъ писакъ. Стоитъ только обратиться къ рекламѣ, посредствомъ которой iудеи стремятся во что бы то ни стало взвинтить своего Лессинга и представить его какимъ-то божествомъ, и для этого пытаясь всякими хитростями, по крайней мѣрѣ, удесятерить славу, которой онъ достоинъ. Систематическiя усилiя iудейской прессы и iудейской литературы пустить въ обращенiе въ публикѣ эту невѣроятную сверхоцѣнку Лессинга приняли недавно прямо какую-то омерзительную форму. Iудейскiе газетные скрибы стараются автора той плоской iудейской пьесы, которая носитъ заглавiе „Натанъ Мудрый”, вознести выше даже величайшихъ писателей и поэтовъ, объявляя его величайшимъ нѣмецкимъ писателемъ, такъ что всякое слово противъ него должно считаться оскорбленiемъ величества. Косвенно они заявляютъ, что ставятъ его выше Шиллера, и таково было уже мнѣнiе Бёрне; они считаютъ его даже сверхчеловѣкомъ, и монументальное воплощенiе этого сверхчеловѣка заявляетъ претензiю на совершенно особое, превосходящее все остальное, мѣсто. Въ то время какъ остальные стоятъ внизу, какъ люди, онъ долженъ, какъ нѣкiй Богъ возсѣдать надъ ними на тронѣ. Объ этомъ трубили различныя iудейскiя газеты по случаю столѣтiя смерти Лессинга: такова была iудейская скромность. Какъ iудеи хотятъ смотреть на Лессинга, конечно, это ихъ личное дѣло. Хотятъ они посадить его рядомъ со своимъ Iеговой, или одного его сделать своимъ новымъ Богомъ, - насъ, нѣмцевъ, и нашей литературы это не касается. Къ этому культу у нихъ есть серьозныя основанiя; ибо ихъ Лессингъ - во вcѣхъ отношенiяхъ, ихнiй, и даже, по крови, больше ихнiй, нежели нашъ.
Уже самое имя Лессингъ свидѣтельствуетъ о томъ, что въ немъ мы имѣемъ дѣло съ iудейскимъ характеромъ. Имя это, сколько мнѣ извѣстно, встречается только у лицъ, iудейское происхожденiе которыхъ достаточно явственно. Что касается родословнаго древа самого писателя Лессинга, то обстоятельство, что въ немъ встрѣчаются и священники, ничуть не говоритъ противъ наличности iудейской крови. Въ прежнiя времена крещенiе евреевъ было дѣло обыкновенное, а пасторы iудейскаго происхожденiя, и даже предпочтенiе, каковое въ этомъ сословiи оказываютъ крещеному iудейству, - явленiе и въ новейшее время не представляющее рѣдкости. Но примѣсь iудейской крови можно распознать и по духовнымъ качествамъ субъекта, по меньшей мѣрѣ, такъ же хорошо, какъ и по телеснымъ признаками и по племеннымъ особенностямъ. Превосходнымъ примѣромъ этого служитъ самъ Лессингъ. Его писательскiя манеры и его духовные аллюры - iудейскiе. Его литературные произведенiя, и формою и с содержанiемъ всюду свидетельствуютъ о его принадлежности къ iудейству. Даже то, что можно бы было назвать его главными произведенiями, есть просто обрывки, и свойственную iудеямъ отрывчатость обнаруживаютъ и въ стилѣ и въ изложенiи. Лаокоонъ и такъ называемая драматургiя страдаютъ отсутствiемъ надлежащей композицiи, и представляютъ собою просто отрывки, въ свою очередь состоящiе изъ сшитыхъ нитками лоскутьевъ. Даже въ предѣлахъ этихъ отдельныхъ лоскутьевъ, благодаря этой манерѣ вставлять одни предложенiя въ другiя, благодаря этому нагроможденiю предложенiй, возникаетъ стиль неестественный, часто рѣшительнѣйшимъ образомъ нарушающiй соразмѣрное сочетанiе мыслей. Но еще ярче даетъ о себе знать эта iудейски-неизящная манера и эта печать iудейской полемики тамъ, гдѣ Лессингъ выступаетъ не какъ художественный критикъ, а, - какъ въ Антигёце, - пускается въ область богословскихъ перебранокъ. Здѣсь iудей чувствуетъ себя въ родной сферѣ и здѣсь онъ еще лучше чѣмъ гдѣ-либо проявляетъ свою сварливость и огрызливость, или, говоря попросту, наглость свойственнаго ему способа выраженiя.
Итакъ, что касается формы и внѣшнихъ сторонъ писательства, Лессингъ всюду является настоящимъ iудеемъ. Это тотчасъ указываетъ, каково и сокровеннѣйшее ядро, и оно вполне соотвѣтствуетъ iудейской скорлупѣ. Реклама, ничуть не стѣсняясь, хотѣла сделать изъ автора Эмилiи Галотти и Натана - дѣйствительнаго поэта, хотя даже сами хвалители твердо стояли на томъ, что пьесы Лессинга совсѣмъ холодны. Для трагедiи Лессингу совсѣмъ не хватало страсти или, лучше сказать, душевныхъ силъ. Но и въ плоскомъ и тускломъ родѣ безразличной драмы, какъ въ Натанѣ, если оставить въ сторонѣ тенденцiю прославленiя еврейства, оставался онъ вялъ и холоденъ. Его комедiя “Минна фонтъ-Баригельмъ” есть нѣчто насквозь искуственное и потому прямо скучное, такъ что вообще свойственной евреямъ склонности къ шутовству здѣсь вовсе не заметно. Вообще, пьесы Лесснига даже отдаленнѣйшимъ образомъ нельзя назвать продуктами творческаго искуства, это - просто плоды тощей ходульности. Но и при такихъ условiяхъ, несмотря на скучный вымученный арранжементъ, онѣ, все-таки, могли бы имѣть какое-нибудь содержанiе и дать хоть какое-нибудь свидѣтельство, что авторъ способенъ былъ къ правильному наблюденiю человѣческихъ аффектовъ. Но и этого нѣтъ. Такъ, на примѣрѣ Эмилiи Галотти, которая къ истинной Виргинiи относится какъ проивоестественная каррикатура, видно, что отсутствiе всякой души было у Лессинга такъ велико, что ему неизвестна была любовь въ болѣе благородной человеческой формѣ даже и по внѣшности. У него она не идетъ выше грубой чувственности, да и то на iудейскiй ладъ. Не доросъ онъ и до Гетевскаго Вертера: иначе, не сказалъ бы онъ, что греческiй или римскiй юнецъ сумелъ бы иначе выпутаться изъ бѣды. Такое сужденiе направлено не только противъ частнаго случая Гете - Вертера, случая, который можно оставить въ покоѣ и по другимъ основанiямъ, оно направлено и противъ всякой смерти, въ которой проявляется сила любви и ея утраты. Бойкiй еврейскiй птенецъ, конечно, могъ бы выразиться въ такомъ родѣ и такимъ образомъ выпутаться изъ бѣды, если бы только, съ своими болѣе грубыми инстинктами, которые не знаютъ болѣе благородной и способной на жертвы любви, вообще могъ-бы попасть въ такое положенiе. Но шекспировскiе Ромео смотрятъ на утраченную любовь не по жидовски и несклонны погребсти ее въ какомъ попало сладострастiи. Но Лессингъ смотрѣлъ на любовь съ точки зрѣнiя низменной жидовской чувственности. Чувства не iудейскихъ народовъ, особенно нѣмцевъ, были ему чужды. Сверхъ того, понятiе о женщинѣ было у него крайне низменно и пошло, но оно, во всякомъ случае, не удивительно и обычно тому, кто искалъ развлеченiй и общества въ игорныхъ притонахъ, и въ азартныхъ играхъ съ высокими ставками въ буквальномъ смыслѣ слова потѣлъ какъ въ банѣ. Его Минна фонъ-Барнгельмъ, какъ бы ни была искуственно разукрашена мнимымъ благородствомъ по понятiямъ Лессинга, оказывается, въ противоположность своей субреткѣ, „сладострастною и набожною”, и въ самомъ дѣлѣ, сочетанiе этихъ свойствъ - совершенно въ iудейскомъ вкусѣ.
Съ недостаткомъ душевныхъ силъ всюду соединялся у него недостатокъ расчленяющаго пониманiя фактическихъ душевныхъ процессовъ. Этимъ объясняется, что Лессингъ оставался неплодотворенъ не только въ попыткахъ практическаго примѣненiя искуства, но ему совершенно не повезло и въ теорiи искуства. Оба недостатка шли у него рука объ руку, хотя всегда пытались высоко ставить его какь художественнаго критика, даже тамъ, гдѣ поэту тотчасъ нужно было дать отставку. Истина же - въ томъ, что то, что называется лессинговскимъ ученiемъ о драмѣ и что выдавалось за пролагающее новые пути произведенiе, есть просто рабская передача положенiй изъ поэтики Аристотеля, который, какъ выражается самъ Лессингъ, былъ для него столь-же непогрѣшимъ, какъ и эвклидовы аксiомы. Опираясь въ главномъ содержанiи всей такъ называемой драматургiи на аристотелевское опредѣленiе трагедiи, онъ дастъ изложенiе сомнительное, но несомнѣнно деревянное и дрянное, и это отмѣннымъ образомъ характеризуетъ свойственное iудейству преклоненiе предъ авторитетомъ, которое обнаружилъ и этотъ театральный литераторъ, о которомъ кричали какъ о реформаторѣ искуства. Въ главномъ дѣлѣ у него никакихъ своихъ мыслей не было, и онъ просто держался средней мѣрки, до какой Аристотелю угодно было низвести все, не исключая и трагическихъ героевъ. Но подробное разсмотрѣнiе этого низведенiя было бы уклоненiемъ отъ разсмотрѣнiя Лессинга, который былъ здѣсь простымъ подражателемъ. Указанное неправильное сужденiе Аристотеля о трагическихъ герояхъ было не его виною; но онъ повиненъ въ томъ, что, педантически слѣдуя этому ложному образцу какъ авторитету, по образу и подобiю его составлялъ и свою драматургiю. И эта съ самаго начала ложная идея отомстила за себя. Эмилiя Галотти должна была быть, такимъ образомъ, героинею по трагической мѣркѣ Аристотеля, однако не удалась и въ этомъ смыслѣ, что очень много значитъ; ибо деревянные герои, выкроенные по аристотелевскому шаблону, уже и безъ того суть посредственности, которыя не должны быть свободными отъ греха и не должны быть совершенствами, но также не должны быть и носителями тяжкой вины. Все должно идти золотою серединою, по аристотелевски, и не вдаваться въ крайности; а по понятiямъ Лессинга, и аристотелевское трагическое состраданiе не должно было переходить этой средней мѣрки. Истинные поэты ни въ древности, ни въ новое время, не могли ничего создать въ смыслѣ этихъ шаблоновъ посредственности, и естественная правда жизни могла осуществлять трагическiе конфликты только въ носителяхъ полномѣрныхъ силъ и страстей. Но я не намѣренъ распространяться дальше объ этихъ вещахъ; ибо если слѣдовать за Лессингомъ во всѣхъ частностяхъ, то придется тотчасъ же оставить почву непосредственной правды и природы и слѣдовать за нимъ шагъ за шагомъ по сухому полю антикварной лжеучености и авторитарныхъ пререканiй о чужихъ и часто прямо пустыхъ мнѣнiяхъ. Но это решительно не входитъ въ рамки предлежащаго труда, и на этомъ же основанiи мы должны оставить въ сторонѣ и Лаокоона, который удался ничуть не лучше драматургiи. Но нельзя умолчать, по крайней мѣрѣ, о той антиморальной чертѣ, что Лессингъ дѣлаетъ закономъ истолкованiя художественныхъ произведенiй не внутреннюю правду, а печатлѣнiе на публику. Поэтому, напримъ., онъ требуетъ, чтобы Агамемнонъ, присутствующiй при жертвоприношенiи своей дочери Ифигенiи, былъ представленъ художникомъ съ закрытымъ лицомъ, чтобы публика не видѣла отвратительно искаженныхъ чертъ его лица. Но всякiй, кому этого рода вещи понятны, найдетъ совершенно естественнымъ, что Агамемнонъ самъ долженъ закрыть себѣ лицо, чтобы не видѣть тѣхъ ужасовъ, при которыхъ онъ долженъ присутствовать, а можетъ быть также, чтобы не испытывать на cебѣ ненавистныхъ взоровъ. Но Лессингъ, находящiй самопонятными даже противорѣчiе природѣ и сознательное искаженiе правды, когда рѣчь идетъ объ „удовольствiи” публики, не пойметъ этого. „Удовольствiе” вообще есть благородное слово, которое онъ находитъ умѣстнымъ даже по отношенiю къ трагическому. Такое употребленiе словъ, воистину, отвѣчаетъ духу iудейской рѣчи, и то обстоятельство, что это есть неуклюжее заимствованiе изъ французскаго, съ совсѣмъ инымъ строемъ, языка, не должно служить извиненiемъ даже и iудею, если онъ хочетъ выражаться нѣмецкимъ или, даже, эстетически-нѣмецкимъ языкомъ.