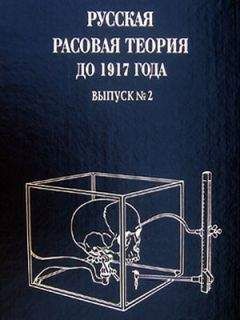Съ недостаткомъ душевныхъ силъ всюду соединялся у него недостатокъ расчленяющаго пониманiя фактическихъ душевныхъ процессовъ. Этимъ объясняется, что Лессингъ оставался неплодотворенъ не только въ попыткахъ практическаго примѣненiя искуства, но ему совершенно не повезло и въ теорiи искуства. Оба недостатка шли у него рука объ руку, хотя всегда пытались высоко ставить его какь художественнаго критика, даже тамъ, гдѣ поэту тотчасъ нужно было дать отставку. Истина же - въ томъ, что то, что называется лессинговскимъ ученiемъ о драмѣ и что выдавалось за пролагающее новые пути произведенiе, есть просто рабская передача положенiй изъ поэтики Аристотеля, который, какъ выражается самъ Лессингъ, былъ для него столь-же непогрѣшимъ, какъ и эвклидовы аксiомы. Опираясь въ главномъ содержанiи всей такъ называемой драматургiи на аристотелевское опредѣленiе трагедiи, онъ дастъ изложенiе сомнительное, но несомнѣнно деревянное и дрянное, и это отмѣннымъ образомъ характеризуетъ свойственное iудейству преклоненiе предъ авторитетомъ, которое обнаружилъ и этотъ театральный литераторъ, о которомъ кричали какъ о реформаторѣ искуства. Въ главномъ дѣлѣ у него никакихъ своихъ мыслей не было, и онъ просто держался средней мѣрки, до какой Аристотелю угодно было низвести все, не исключая и трагическихъ героевъ. Но подробное разсмотрѣнiе этого низведенiя было бы уклоненiемъ отъ разсмотрѣнiя Лессинга, который былъ здѣсь простымъ подражателемъ. Указанное неправильное сужденiе Аристотеля о трагическихъ герояхъ было не его виною; но онъ повиненъ въ томъ, что, педантически слѣдуя этому ложному образцу какъ авторитету, по образу и подобiю его составлялъ и свою драматургiю. И эта съ самаго начала ложная идея отомстила за себя. Эмилiя Галотти должна была быть, такимъ образомъ, героинею по трагической мѣркѣ Аристотеля, однако не удалась и въ этомъ смыслѣ, что очень много значитъ; ибо деревянные герои, выкроенные по аристотелевскому шаблону, уже и безъ того суть посредственности, которыя не должны быть свободными отъ греха и не должны быть совершенствами, но также не должны быть и носителями тяжкой вины. Все должно идти золотою серединою, по аристотелевски, и не вдаваться въ крайности; а по понятiямъ Лессинга, и аристотелевское трагическое состраданiе не должно было переходить этой средней мѣрки. Истинные поэты ни въ древности, ни въ новое время, не могли ничего создать въ смыслѣ этихъ шаблоновъ посредственности, и естественная правда жизни могла осуществлять трагическiе конфликты только въ носителяхъ полномѣрныхъ силъ и страстей. Но я не намѣренъ распространяться дальше объ этихъ вещахъ; ибо если слѣдовать за Лессингомъ во всѣхъ частностяхъ, то придется тотчасъ же оставить почву непосредственной правды и природы и слѣдовать за нимъ шагъ за шагомъ по сухому полю антикварной лжеучености и авторитарныхъ пререканiй о чужихъ и часто прямо пустыхъ мнѣнiяхъ. Но это решительно не входитъ въ рамки предлежащаго труда, и на этомъ же основанiи мы должны оставить въ сторонѣ и Лаокоона, который удался ничуть не лучше драматургiи. Но нельзя умолчать, по крайней мѣрѣ, о той антиморальной чертѣ, что Лессингъ дѣлаетъ закономъ истолкованiя художественныхъ произведенiй не внутреннюю правду, а печатлѣнiе на публику. Поэтому, напримъ., онъ требуетъ, чтобы Агамемнонъ, присутствующiй при жертвоприношенiи своей дочери Ифигенiи, былъ представленъ художникомъ съ закрытымъ лицомъ, чтобы публика не видѣла отвратительно искаженныхъ чертъ его лица. Но всякiй, кому этого рода вещи понятны, найдетъ совершенно естественнымъ, что Агамемнонъ самъ долженъ закрыть себѣ лицо, чтобы не видѣть тѣхъ ужасовъ, при которыхъ онъ долженъ присутствовать, а можетъ быть также, чтобы не испытывать на cебѣ ненавистныхъ взоровъ. Но Лессингъ, находящiй самопонятными даже противорѣчiе природѣ и сознательное искаженiе правды, когда рѣчь идетъ объ „удовольствiи” публики, не пойметъ этого. „Удовольствiе” вообще есть благородное слово, которое онъ находитъ умѣстнымъ даже по отношенiю къ трагическому. Такое употребленiе словъ, воистину, отвѣчаетъ духу iудейской рѣчи, и то обстоятельство, что это есть неуклюжее заимствованiе изъ французскаго, съ совсѣмъ инымъ строемъ, языка, не должно служить извиненiемъ даже и iудею, если онъ хочетъ выражаться нѣмецкимъ или, даже, эстетически-нѣмецкимъ языкомъ.
О томъ, что изъ Лессинга всего больше приходится по душѣ iудеямъ, много говорить не приходится. Статья противъ гамбургскаго пастора Гёца и Натанъ - пьесы весьма низкаго уровня. Онѣ должны были служить дѣлу просвѣщенiя, а на самомъ дѣлѣ это - присяга на вѣрность обобщенной iудейской религiи. Подъ видомъ пропаганды терпимости онѣ служатъ дѣлу ожидовленiя образа мыслей. Отсюда ясно, что имя Гёца сдѣлалось для iудеевъ паролемъ, къ которому они прибѣгаютъ, когда что-либо имъ непрiятно. Но я никогда не могъ высоко оцѣнить разницы между Гёцемъ и Лессингомъ. Напротивъ того, мнѣ тотчасъ же стало достаточно ясно, что вся разница состоитъ въ томъ, что съ одной стороны пасторальнiй Гёцъ, а съ другой стороны iудейскiй Гёцъ теологически сходились въ томъ, что ради высшаго духовнаго образованiя никто ими не могъ интересоваться, а въ настоящее время и для средняго они никакого значенiя не имѣютъ.
Если прослѣдить характеръ Лессинга, въ его ли частныхъ дѣлахъ, въ отношенiи ли образа мыслей запечатлѣвшагося въ его произведенiяхъ, то найдемъ, что и здѣсь его симпатiи жидовству подтверждаются въ различнѣйшихъ направленiяхъ. Здѣсь достаточно указать на одинъ примѣръ. Лессингъ тайно досталъ себѣ отъ секретаря Вольтера экземпляръ предварительныхъ оттисковъ одной еще необнародованной важной рукописи, отправился съ нимъ путешествовать, и Вольтеръ, узнавъ объ этомъ, чтобы получить рукопись обратно, долженъ былъ прибегнуть къ своего рода полицейскимъ мѣрамъ. Приэтомъ, секретарь потерялъ мѣсто. Человѣкъ болѣе приличныхъ правиль никогда не поступилъ бы какъ Лессингъ, надъ которымъ, кромѣ того, тяготѣетъ подозрѣнiе, что это Вольтеровское произведенiе добылъ онъ себѣ ранѣе его опубликованiя ради литературныхъ позаимствованiй. Iудеи этотъ проступокъ Лессинга называютъ “маленькою небрежностью” и, нисколько не стѣсняясь, выдаютъ его за величайшiй характеръ или за величайшаго человѣка, и даже говорятъ о немъ какъ о “святомъ Лессингѣ”. Фридрихъ же Великiй, которому уже давно надоѣдали съ представленiями о назначенiи Лессинга библiотекаремъ, имѣлъ полное право отклонить домогательства. Со своимъ сужденiемъ о характерѣ и о другихъ качествахъ Лессинга онъ былъ лучшимъ представителемъ своего народа, чѣмъ позднѣйшiiе, неспособные къ сужденiю, историки литературы, которые позволяли iудеямъ водить себя за носъ или даже учить себя. Заслуги Лессинга суть лишь услуги жидамъ; въ строгомъ смыслѣ слова, какъ поэтъ и какъ художественный критикъ, онъ не имѣетъ никакого значенiя. Такимъ образомъ, остаются только iудейскiя тенденцiи. Итакъ, постройка Натана никакъ не можетъ считаться актомъ художества, а просто есть iудейская демонстрацiя.
Немножко таланта, да притомъ еще въ жидовскомъ родѣ, далеко не составляетъ настоящей литературной величины. Сверхъ того, этотъ скромный талантъ истощился, главнымъ образомъ, въ заостренiи стиля, перенимая это у французовъ и, особенно, у Вольтера. Если онъ зато ругалъ французскую эстетику, то на это имѣлъ такое же право, какъ и на заимствованiя этихъ заостренiй стиля; ибо этой неестественности французы у себя уже дали отпоръ, а именно, онъ данъ былъ сильнымъ именно въ этой односторонности генiемъ Руссо. Лессингъ, съ своимъ Аристотелемъ, который для него былъ такъ же непогрѣшимъ какъ Эвклидъ, и съ своею вялою манерою, безъ всякаго пониманiя болѣе идеальной жизни; не былъ такимъ мужемъ, который могъ бы самостоятельно стать выше односторонностей и заблужденiй французскаго вкуса. Онъ усвоилъ себѣ только то, что уже успело прорваться наружу у англичанъ и отчасти и у нѣмцевъ, самъ же могъ только, портя все это, филологизировать и антикваризировать. Да и вся то его слава, если не говорить о похвалахъ, переходящихъ всякую мѣру, на девять десятыхъ зиждется на фальшивой iудейской рекламѣ. Остальная же десятая доля не даетъ iудеямъ никого права требовать отъ нѣмецкой нацiи какого-нибудь особаго уваженiя.
Я остановился здѣсь на Лессингѣ нѣсколько дольше и посвятилъ ему нѣсколько страницъ, хотя его мнимая поэзiя, его неискусная критика искуства, его теологическiя пререканiя, его заступничество за iудеевъ и, наконецъ, его дрянной iудейскiй характеръ, - все это составляетъ предметъ особаго небольшого моего труда (Сверхоцѣнка Лессинга и его заступничество за iудеевъ, 1881). Но данный мною сжатый очеркъ умѣстенъ здѣсь потому, что сверхоцѣнка Лессинга iудеями составляетъ ближайшiй и популярнѣйшiй примѣръ дѣйствiй безстыднѣйшей iудейской рекламы, и что Лессингъ, вмѣстѣ съ Бёрне и Гейне, образуютъ группу литературныхъ именъ, которую кратко можно назвать iудейскою группою, и держать въ почтительномъ отдаленiи отъ дѣйствительно творческихъ и истинно оригинальныхъ величинъ, каковы Вольтеръ, Руссо, Бюргеръ, Байронъ, а пожалуй съ прибавкою также Гёте, Шиллера и Шелли. Если бы ежедневная пресса не находилась вся въ рукахъ iудеевъ, то и нельзя было-бы предъ лицомъ народовъ искажать истину съ такимъ пустозвонствомъ, устранять всякое натуральное cужденiе и его мѣсто всюду заменять предвзятымъ iудейскимъ мнѣнiемъ. Тамъ, гдѣ все это могло бы безъ всякаго стѣсненiя развиваться дальше и дальше, тамъ смущенные этимъ бѣдствiемъ народы должны бы были примириться съ мыслью, что генiй ихъ долженъ погибнуть въ этихъ низинахъ iудейской пошлости и, въ концѣ-концовъ, найти себѣ могилу подъ этою тиною iудейской лжи.