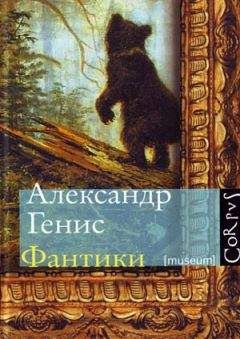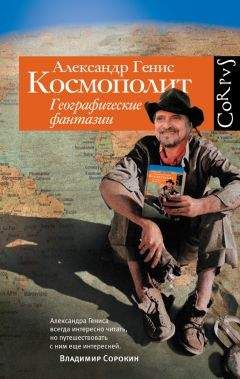Шпенглер, описывая греков «людьми настоящего», приводит занятный пример: договор между Элидой и Гереей, который должен был иметь силу в течение «ста лет, начиная с этого года». Какой же это был год — осталось не отмеченным.
Эта детская промашка, напоминающая казарменный парадокс «копать канаву от забора до обеда», в контексте свежей истории оборачивается глубокомысленной притчей. Античная жизнь без будущего, которая так разительно отличалась от нашей устремленности к грядущему, сегодня пример для подражания.
Наделавшая шума теория конца истории на самом деле означает, что история осталась без конца. Лишившись апокалиптической точки — будь то атомная война или торжество коммунизма, наша культура осваивает новое для себя время — настоящее.
Вот мы и опять ученики античности. И может быть, самым важным даром греков окажется античное отношение ко времени.
Ренессанс, кстати сказать, начался, когда открыли прошлое. Не начнется ли другой ренессанс с открытия настоящего?
В конце века, который мы сейчас провожаем, я рассматриваю номер «Лайфа», вышедший в его середине: февраль 1953 года, журнал, помеченный важной для одного меня датой — днем моего рождения.
Как же выглядел, или, точнее, хотел выглядеть мир, когда мы с этим «Лайфом» в нем появились? Странно. Во всем номере нет ни одного негра, ни одного мужчины без галстука, ни одной дамы без шляпы. Банка супа «Кэмпбел» всего лишь банка супа, а не шедевр «поп-арта». Рекламные ковбои. Светлые, отдающие флуоресцентом краски холодных тонов: «красных» здесь нет, хотя Сталин еще жив. Зато есть сухощавый и невзрачный Эйзенхауэр, который в своей инаугурационной речи наставлял Америку в идеализме: «…блюсти веру отцов в бессмертное достоинство человека, гарантированное вечными нравственными ценностями и естественными правами. В этом миссия страны, назначенная ей Судьбой». Хиппи еще не появились, а битников не пускали в респектабельное общество — еще некому сбивать Америку с толку, развращая ее сомнениями.
Мне трудно представить себя в этом мире длинных автомобилей и дамских панталон. Я не мог бы быть тем веснушчатым шалопаем, который привычно складывает ладони в предобеденной молитве. И моим отцом не мог бы стать тот уверенный, слегка ироничный, деловитый, с ранней сединой мужчина, который держит рекламный стакан виски посреди всеобщего прогресса.
А где-то за обложкой обитает еще живая Мэрилин Монро. Она- высшая награда мужской Америке от женской — всегда готова отдать свою любовь скромному, работящему хозяину и добытчику, который ради нее и этих самых шалопаев каждый день на бирже и в конторе защищает свое скромное, умеренное счастье.
Странности этого безупречно причесанного и выглаженного мира оправданы тем состоянием бытийной нормы, которую безыскусно и потому искренне зафиксировал номер «Лайфа» от февраля 53-го года. Конечно же это вымышленная, иллюзорная, поверхностная норма, которая с высоты нашего времени кажется одновременно наивной и циничной.
Однако в чужом, отделенном временем и пространством опыте меня как раз и волнует поверхность жизни — ее кожа. Ощущение истории кажется мне прежде всего тактильным. Только потеревшись о шкуру эпохи, мы способны войти с ней в личный контакт. Мы двигаемся в истории, осознать которую можно лишь на ощупь. Сегодняшнюю дату определяет не газета, а воздух времени, оставляющий следы на наших внешних покровах — плащах, пиджаках, телах.
Опыт внешнего постижения мира чужд российским привычкам: мы — любители потрохов истории. В ней нас волнуют душа, смысл, предназначение, движущие силы, тайные энергии, подземные толчки, тектонические сдвиги — вечное, так сказать, de profundis.[2]
Но попади к нам путешественник из прошлого, то потрясли бы его не столько достижения прогресса, сколько выходки портных. Не этика, а этикет меняет ткань жизни, выкройку ее фасона.
Одержимая своей катастрофой, Россия погрязла теперь в прошлом не меньше, чем раньше в будущем. Известная русская болезнь — плохая ориентация во времени помешала ей заметить, что, помимо Октября, мир потрясали и другие, не менее важные и более актуальные катаклизмы. К концу века история вышла из социальных глубин на поверхность, чтобы заняться не тайным, а явным. Пока мы выгребаем против подспудных течений, мир колеблют волны житейского моря.
Наше время лишено глубины уже потому, что все главное происходит в сфере очевидного. Не слово, не речь, не спрятанный в глубь рта язык, а хищное око завоевывает мир, чтобы его ощупать — если не руками, то хоть глазами. Нынешние кризисы в Америке питаются самыми явными, самыми зримыми конфликтами, например между мужчинами и женщинами. Война полов — безнадежнее всех холодных и горячих войн — разделила общество куда более радикально, чем прежде, — не на классы, не на партии, не на поколения, а надвое.
Могли Герберт Уэллс, пугавший морлоками замороченное классовой борьбой общество, предвидеть, что в конце столетия самыми бурными проблемами Америки будут те, что рождает наша биологическая природа: аборты, особенности куртуазного ритуала, получившие юридическую кличку sexual harassment,[3] и право на добровольную смерть — эвтаназию?
История бежит от себя, возвращается вспять, чтобы заняться чуждыми ей вопросами — не об устройстве жизни, а о жизни как таковой. Теперь она решает примерно те же проблемы, что стоят перед всеми животными, начиная с амебы, — рождение, размножение, смерть. Впрочем, с такой триадой не соскучишься.
В мире, вышедшем на поверхность, все главное происходит снаружи, в области этикета, вопросами которого, например, занимается американский Верховный суд, решающий, можно ли джентльменам рассказывать дамам похабные анекдоты.
Пока остальные считают, что американцы бесятся с жиру, сами американцы говорят о конце истории. Опять трагическое несовпадение: Россия в нее еще только вступает, Америка — уже выходит.
И все же всех нас делает современниками календарь, так кстати подводящий черту и веку и тысячелетию, что невольно будит апокалипсические кошмары. Идея конца кажется потребностью индивидуального сознания, отравленного перспективой перетекания истории в биологию. Но мне всегда казалось, что прогноз экологической смерти служит эвфемизмом, скрывающим страх перед собственной кончиной. Крах и социальной, и технократической утопии вынуждает изменить масштаб предстоящего: экологическая катастрофа дает шанс не умереть в одиночку. Призрак гибели мира — последнее убежище личности, утратившей мечту о коллективном спасении. Все это — муки квазирелигиозного сознания, решившего приблизить Страшный Суд своими силами. Не худший вариант: растворить свои грехи в общих, придать смысл и завершенность мирозданию, пусть и за счет его ликвидации. В тени рукотворного апокалипсиса проще избавиться от ужаса персональной смерти.
В конце века я не верю в конец мира, потому что мне кажется это уж слишком легким выходом, избавляющим нас отличной ответственности.
Оптимизм ведь и в самом деле более ответственный склад сознания хотя бы потому, что свои трагедии труднее пережить, чем общие. Болезнь, развод, банкротство, кончина близких, а главное, скука, тоска обыденности страшнее глобальных катастроф: на миру и смерть красна.
Самое жуткое в апокалипсисе — это то, что его может и не быть. Жизнь продолжается за пределами нашего о ней представления, отказываясь раскрыть нам свой сокровенный смысл.
Вот и XX век завершается совсем не так пышно и грозно как ждали. Мир лишь потерял глубину, вывернулся наизнанку, обнажив вместо историософского нутра гладкую кожу этикета.
Мой любимый герой — Робинзон Крузо. И люблю я его как раз за поверхностность — суждений и привязанностей, замыслов и поступков. Средний человек, он лишен самомнения, равно присущего и тому, кто выше его, и тому, кто ниже. Его выделяют не богатство, не бедность, не воля, не характер, не гений, не злодейство — только судьба.
Самое симпатичное в Робинзоне — постоянство: оставшись один, он сумел жить так, как будто ничего не произошло. Робинзон создал иллюзорный социум — не из коз и попугаев, а из самого себя. Выжив, сохранив разум и свои прежние представления о мире, он внушил нам надежду на то, что социальные ценности имманентно присущи и каждому по отдельности. Средний человек, Робинзон Крузо репрезентативен: он достойно представляет человека перед природой как существо вменяемое, нравственное и разумное, как вполне удавшийся продукт европейской цивилизации.
Однако в XX веке с Робинзоном произошла трагическая метаморфоза. А ведь задачи ему предстояло решать знакомые — по словам Мандельштама, «задачи потерпевших крушение выходцев XIX века, волею судеб заброшенных на новый исторический материк».