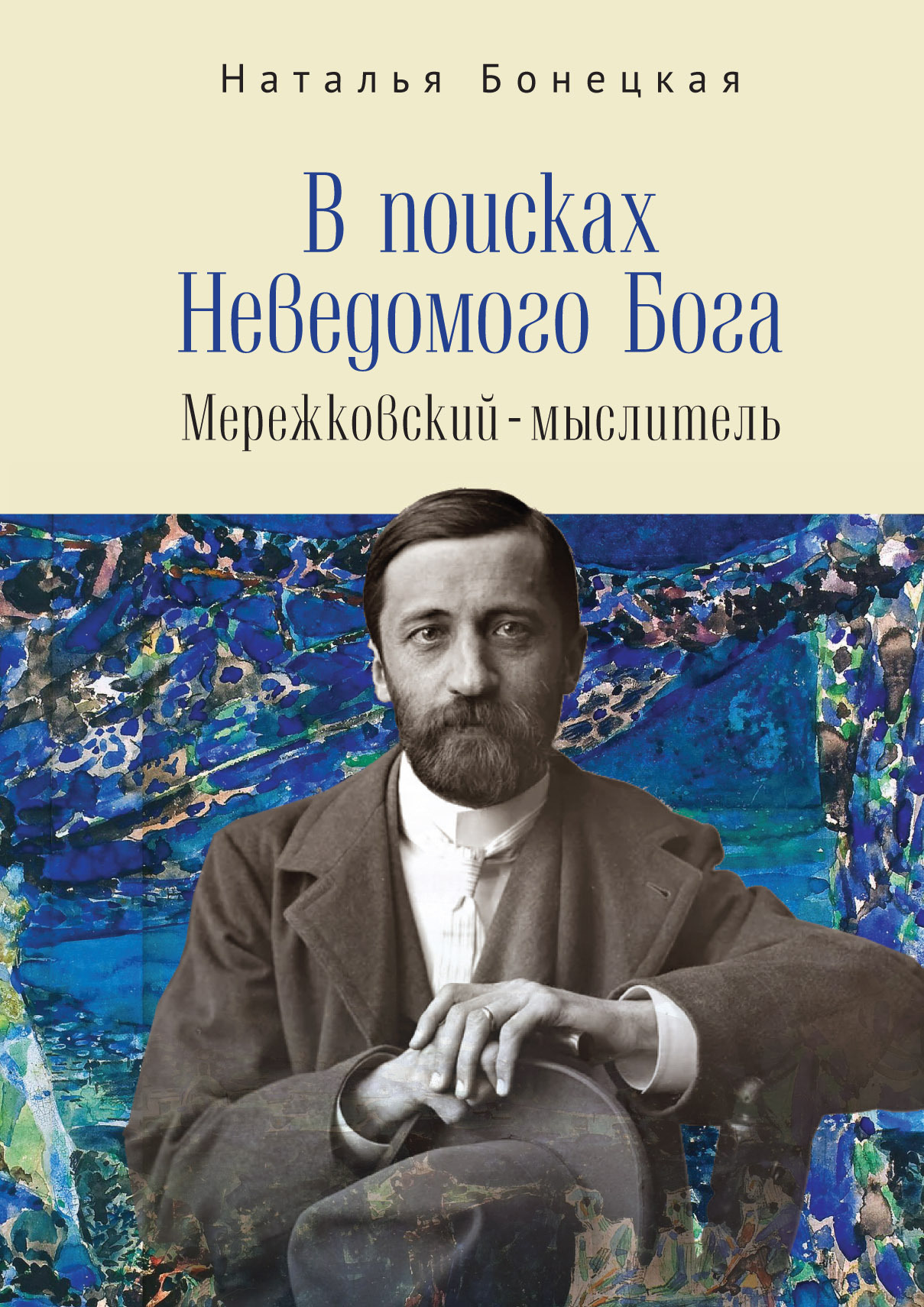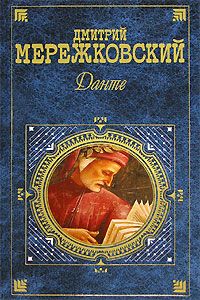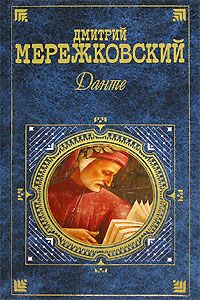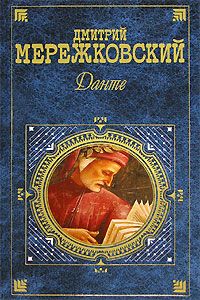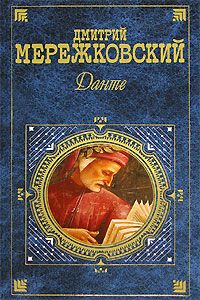Неизвестного, и чтимой с благоговением, уже в преддверии кончины, святой – «малой» Терезы. Такими были и его литературно-критические этюды – о Гоголе, Соловьёве, – даже и труд о Толстом и Достоевском: Лев Толстой в нем, на мой взгляд, это художественный образ, созданный Мережковским. В романах же Мережковского поднимаются мучительные для мыслителя религиозно-философские проблемы. Скажем, в «Тутанкамоне на Крите» (равно и в «Мессии») передана с предельной силой пронзительная тоска древних народов по Спасителю, что было пафосом учения Мережковского об исторической преемственности христианства по отношению к язычеству. Порой же диалектика – вернее, философская игра антиномических концептов (Христос, Антихрист) художником олицетворена и воплощена во всем известных исторических сюжетах (противостояние Петра и Алексея во втором романе ранней трилогии). – Но вот человек, – а я настаиваю на том, что именно человек, в его тайне, является центром воззрения Мережковского, – изображается им всегда как субъект, как «я», – в его экзистенции. Мережковский, о ком бы он ни писал, всегда стремится передать сокровенный бытийственный опыт личности. Правым или лжецом оказывается при этом дерзновенный гностик, переживало ли данный опыт историческое лицо, тот ли смысл писатели-классики (Толстой, Достоевский) подразумевали в связи со своими героями – я сейчас говорю не об этом. Гипотетический опыт «я», воспроизводимый Мережковским, читатель воспримет как
свой собственный (с поправкой на эстетическую дистанцию). Это связано с тайной человеческого «я», с невероятной диалектикой: «я» – одно и то же у всех, абсолютно разнящихся личностей.
И здесь я подхожу к самой сути своего тезиса: Мережковский – это писатель, обращенный, как к интимному другу, к своему далекому-близкому читателю. Вбирая в душу порой потрясающий глубинный опыт великих людей, простой, маленький человек, этот читатель, может раздвинуть ее, обогатив интуициями и прозрениями гениев. Гностик-Мережковский умел передать другому истины ноуменальные. Те состояния, которые переживал умирающий Гоголь; мука «опрощения» Толстого; раздвоенность – дифференцированно: воли, ума, чувства – героев Достоевского (соответственно: Раскольникова, Ивана Карамазова, князя Мышкина); способная довести до безумия ситуация двойничества – искушаемый после Крещения Иисус Неизвестный мгновениями ощущал себя своим Врагом: читатель Мережковского напитывается этими уникальнейшими глубинными интуициями, прочитав подлинно гностические, а на языке Флоренского – «конкретно-идеалистические» (т. е. представляющие платоновские эйдосы в их конкретности) труды нашего мыслителя. А непостижимый (и для нас прельстительный) опыт «богосупружества» Терезы Авильской? А мистическая «темная ночь» Хуана де ла Крус («Испанские мистики»)? Мережковский как бы презирает те барьеры культур и цивилизаций, о которых писал Шпенглер, те духовно-эволюционные скачки, которые Серебряному веку открыл Штейнер. Но вот как бы карандашные наброски лиц русских писателей: один штрих порой ценнее тщательно выписанного маслом полотна. Тургенев, почувствовавший Христа в крестьянине, оказавшемся рядом с писателем за богослужением, немедленно утрачивает свой привычный ярлык атеиста: в стихотворении в прозе «Христос», говорит нам Мережковский, передано высокое религиозное откровение, которого был удостоен этот русский европеец. Не сообщает ли критик-гностик о Лермонтове фактически всё, когда доказывает, что центральной бытийственной интуицией великого поэта была метафизическая тоска по небесной родине? Образ же Соловьёва, который его почитатели уже в начале XX века были готовы превратить в икону, под пером Мережковского словно дает глубокую трещину: демонический хохот, которым подает голос сама дионисийская бездна – «пучина греха», который смущал близких Соловьёва, если не упраздняет концепцию «рыцаря-монаха» (Блок), то выявляет в этом странном лике неожиданно новое измерение.
Этот перечень имен великих можно продолжать и продолжать: Мережковский обладал редким даром понимания каждого своего «вечного спутника» в качестве субъекта – как «я»; не был ли он тем самым близок к исполнению Христовой заповеди – любить другого, как самого себя?.. И писатель был способен также и донести – средствами художественного ли, философского ли слова – экзистенциальный опыт собственных «вечных спутников» до читателя. Для последнего погружение в тексты Мережковского – это не просто стяжание великого духовного богатства, но и личностный рост. Надо сказать, что философская антропология Мережковского (это более привычное название для его гностической биографики) богаче и глубже соответствующих концепций Шестова и Бердяева, также проблематизировавших экзистенциальный опыт человека. Шестов, интерпретатор текстов, тоже пристално всматривается в экзистенцию великих – их авторов; «подопытными кроликами» (так героев Шестова назвал С. Булгаков) в его герменевтической лаборатории оказывается тоже огромное множество лиц – от библейского Авраама, античных философов и средневековых номиналистов до Ницше, Толстого и Достоевского, Гуссерля… Однако «странствование по душам» Шестова, в отличие от аналогичного же «странствования» Мережковского, неизменно вело к одному – к «весам Иова», где на одной чаше находится индивид с его «правдой», а на другой – всеобщий нравственный закон. У Шестова получается, что Плотин и Пушкин, Кьеркегор и Ницше, Лютер и Достоевский и пр. – что все великие из милого шестовскому сердцу сонма обладали одним и тем же, неизменным во все времена экзистенциальным опытом: они боролись с общезначимой истиной…. Шестов, видно, писал всегда о себе; о себе же – «человеке с двоящимися мыслями», хотелось писать и Мережковскому, почему он «раздвоил» даже и Христа, когда экзистенцию Богочеловека обозначил как борьбу в его душе «страха страдания» и «страсти к страданию». Однако Мережковский нередко умел и оторваться от себя, увлекшись всерьез другим, интимно полюбив своего героя. Мир экзистенциальных идей у Мережковского многолик; одну же единственную экзистенцию – авторскую – мы находим не только у Шестова, но и у Бердяева. Но бердяевский опыт несотворенной свободы и творчества вряд ли оказался кому-либо до конца понятным: даже С. Булгаков, близко общавшийся с Н. А. на протяжении многих лет, часто иронизировал над этим загадочным «творчеством» того, кого (ошибочно!) не считал за особо творческого человека (см. булгаковские письма 1900-1910-х годов в сб. «Взыскующие Града»). Подлинным гностиком, способным к глубинному познанию другого, был именно Мережковский. Бердяев же, хотя и считал себя таковым, был скорее виртуозом единственно самопознания. То же самое приходится сказать и о Шестове. Впрочем, слово Шестова, оперирующего чужими текстами, обладает редкой убедительностью. Защищая его концепцию «весов Иова», можно указать на факт очевидный: действительно, гениальная, пассионарная личность всегда противостоит, со своей правдой, массе, обществу, устоявшемуся воззрению, – сильный человек всегда одинок, как говорил Йун Габриэль Боркман у Ибсена…
И вот еще одно маленькое, но важнейшее добавление к существу моего утверждения: Мережковский – автор не для всех, однако – для всякого. А именно: чтение его текстов не только расширяет «я» читателя, но и помогает ему в великом деле самопознания. Можно тотчас же запротестовать: а почему, собственно, я познаю себя, прикасаясь к опыту Толстого? или католических мистиков? или Плиния Младшего и пр.? Православный пурист скажет: самопознание – это ведение собственных грехов,