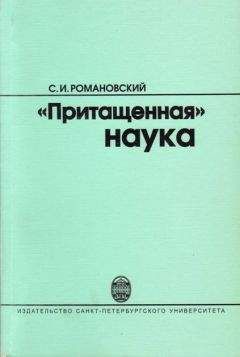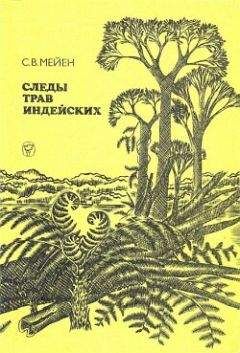Итак, драма коренной ломки российской науки, начавшаяся еще в годы гражданской войны, завершилась в 1929 г., в год «великого перелома». С этого времени мы уже с полным правом можем говорить только о советской науке. О.Ю. Шмидт еще в конце 20-х годов полагал, что незаинтересованность научных работников в социалистическом строительстве коренится в их классовом составе: из 18500 «ученых» в 1928 г. только 6,5 % были членами ВКП(б). Но подобный перекос продолжался недолго: как только ученые поняли, что, находясь «вне рядов», им не удастся сделать ни научной, ни тем более административной карьеры тысячи работников научного фронта хлынули в ряды активных строителей коммунизма. Их было так много, что пришлось ввести квоты на интеллигентов-партийцев, чтобы не очень засоряли классовую чистоту рабоче-крестьянской партии.
Подобный процесс почти синхронно проходил в фашистской Германии. В Гамбургском университете уже в первые месяцы 1933 г. число членов нацистской партии среди преподавателей достигло 64 % [269].
Желание значительной части советской интеллигенции быть причастной к прогрессу национальной науки вполне понятно, ибо «на словах» развитие науки не просто поощрялось, в стране долгие десятилетия существовал устойчивый миф о том, что благополучие советского общества напрямую зависит от развития советской науки. Из него, как следствие из геометрической теоремы, пророс и другой устойчивый миф – «только “большая” наука может быть эффективной». Именно этот миф, усилиями властей претворенный в жизнь, породил «самый гипертрофированный научный организм в истории человечества» [270].
Что можно сказать? Советская власть более семи десятилетий формировала свою науку и создала в итоге уникальную структуру. Дело в том, что советская наука – функция советской системы, чувствовала она себя более или менее пристойно только при условии полной изоляции от остального мира и жесточайшего идеологического давления да к тому же без «автономного социального пространства» [271].
Более добавить нечего.
Идеология – лоно советской науки
Если до 1917 г. науку душили цензурой (церковной или светской), лишали средств к существованию, изолировали от остального мира, но все же не смогли убить живую мысль и тягу к знаниям, то коммунистический режим, как только его руководящая доктрина – ленинизм – взбесилась окончательно [272], сделал, казалось бы, невозможное: он убил мысль, т.е. попросту кастрировал науку. Наука стала выводиться из идеологии, преданно служить ей, она стала подлинно советской.
Еще В.В. Розанов прозорливо разглядел основную «особость» русской революции: она будет продолжаться до тех пор, пока не сгниет воздвигнутый на ее фундаменте государственный строй. Революция каждый свой шаг, даже по прошествии длительного времени, будет рожать с мукою и всегда будет надеяться только на «завтра», но это «завтра» ее обманет и перейдет в «послезавт- ра» [273]. Ясно поэтому, что революция неизбежно должна сопровождаться «раздражением» общества, а чтобы его не было видно, есть одно незаменимое средство – страх. Он – главная черта революционной ментальности, от него всего один шаг до искренней, даже исступленной веры в революционные идеалы. Почему?
Потому только, что понятие тоталитарного государства так велико, что оно перестает быть средством, превращается в предмет мистического, по сути религиозного поклонения. Идее начинают служить преданно, верят в нее с «восторгом», что тонко подметил В. Гроссман. При этом совсем незаметно интеллигент убивает в себе интеллектуала [274], т.е. он начинает верить, переставая думать. В этом и состоит смысл мутации русского интеллигента в интеллигента советского. Процесс этот оказался не таким длительным, как можно было думать. Он благополучно завершился уже к концу 20-х годов.
Одним словом, Ленин и его последователи сознательно лишали страну интеллекта. Сначала он мешал вождю закрепиться у власти, затем стал просто не нужен, ибо его с успехом заменила идеология. Воздухом советской системы стало единомыслие, ибо разномыслие порождает инакомыслие, а инакомыслие – это сомнения и неуверенность в правильности избранного пути, что подрывает фундамент системы и чревато самым страшным: девальвированием Главной идеи.
Чтобы ничего этого не случилось, надо предельно упростить любые объяснительные схемы политической действительности, поделить человечество – да и свое общество – на друзей и врагов, выстроить стройную и вполне доступную для понимания любого человека «генеральную линию» и, пообещав народу немедленное улучшение жизни, как только он поможет своей родной партии расчистить завалы проклятого прошлого, двинуть воодушевленные этими посулами массы на свершение трудовых подвигов.
Делать все это именно в России было несложно: русскому человеку не привыкать жить в условиях тотального гнета, его сознание исторически сложилось так, что он всегда уповал не на законы, а на справедливость, что тождественно, по Н.А. Бердяеву, целостному (тотальному) миросозерцанию. Оно же всегда стремится к уничтожению «лишних» сущностей [275], как бы нарушающих цельное и привычное восприятие окружающей действительности.
От лишних «сущностей» ученым помогали избавиться многочисленные политические процессы 20 – 30-х годов. Они сразу решили несколько проблем: привели страну в состояние устойчивого одномыслия, посеяли в умах и душах научной интеллигенции неистребимый страх и одновременно веру в правильность избранного партией пути. Сфабриковав еще в 1920 г. дело «Тактического центра» (Таганцевское), коммунисты хотели уничтожить автономию творческой интеллигенции. Тогда это не удалось. Справились с этим на рубеже 30-х годов, когда вся страна, затаив дыхание, следила за процессами «вредителей», проходивших по «Шахтинскому делу», «Промпартии», «Трудовой крестьянской партии» и т.д. Партийный заказ в рамках этих процессов поддерживали писатели М. Горький, И. Эренбург, Д. Бедный, И. Ильф и Е. Петров, а также методологи от науки: Э. Кольман, И. Презент и др. Страну, одним словом, захлестнула волна «спецеедства» [276] Всего по этим и другим процессам разъехались по зонам ГУЛАГа более 10 тыс. человек.
7 октября 1931 г. Н.И. Вавилов написал друзьям за границу: «… волна недоверия в связи с процессами Рамзина, Суханова, Осадчего и др. (Промпартия. – С.Р.) пошла дальше и выразилась недоверием вообще к интеллигенции. Началась суровая и, как правило, несправедливая критика под углом якобы диалектического материализма» [277].
Как заметил историк И.И. Шитц, «объяви власть сейчас (30-е годы. – С.Р.) погром интеллигенции, он совершился бы с большим подъемом, во всяком случае, более значительным, чем былые еврейские погромы» [278].
Не будем также забывать, что единомыслие – идеальная база для пропагандистского возбуждения коллективного самопсихоза, а постоянный гнет полностью мифологизированной истории страны непрерывно подогревает социально-психологическое восприятие и идеологических мифов. Поскольку вся история, особенно приближенная к судьбоносному революционному реперу, оказывалась сотканной из мифов, т.е. попросту подогнана под нужную схему, то доступ в нее реальным проблемам и действительным фактам был наглухо закрыт, как, впрочем, и заказаны любые недоуменные вопросы. Люди при подобном воспитании были лишены выбора, они становились самодостаточными фанатами социальной веры и чувствовали в себе неисчерпаемые силы для любых трудовых свершений. Они гордились своей нынешней – пусть и нищей – жизнью, ибо жили они только ради «завтра». А в него они не просто верили, они знали, что оно наступит.
Профессор С.А. Эфиров обобщил все эти прелести, назвав их «социальным нарциссизмом» – самолюбованием и самовосхвалением, справедливо посчитав его характерным проявлением тоталитарного режима в самосознании людей. Социальный нарциссизм дает народу уверенность в правильности избранного пути, он поселяет в душе каждого человека гордость за «единственную в мире страну» и за свою сопричастность к ее делам. Он же, покоясь на всеобщем единомыслии, приводит интеллект нации к единому знаменателю – все в равной степени твердо убеждены «в обретении единственно универсальной истины» [279].
Сила подобного сознательного и методичного оглупления нации в том, что осредненные показатели всегда статистически устойчивы и постоянно растут в нужном направлении. Поэтому в целом, за весь народ, коммунисты могли не беспокоиться – он был с ними, а тех же, кто выпадал за пределы статистически надежного сознания, можно было легко распознать и изолировать.