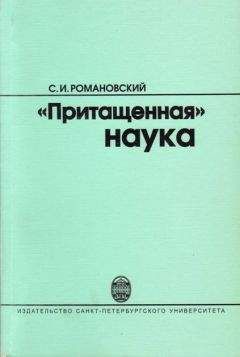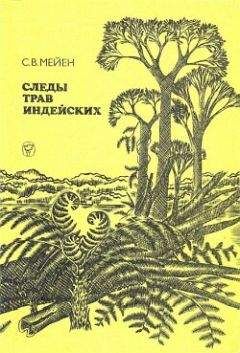Направленная идеологическая деформация науки началась еще в 20-е годы. Первыми под теоретические устои нового общества поспешили подстроиться науки гуманитарного цикла: философия, история, филология.
Пропуском в большую науку стали не знания, а критерии совсем иного рода: анкета, «правильность» взглядов и неколебимость идейной позиции. Истинность любого научного утверждения теперь поверялась не фактами, а тем, как надежно оно укладывается в марксизм и сколь прочно сцепляется с диалектическим и историческим материализмом. Только эти критерии стали убедительны, только они гарантировали живучесть научных концепций. Разумеется, развивать науку с помощью марксистско-ленинского цитатника нашлось великое множество. Все они встали неодолимой стеной на пути тех, кто по старинке добывал знания в лабораториях, проверяя и перепроверяя эксперименты. Постепенно сторонники «классовой» науки заняли в ней все ключевые посты: кафедры в университетах, лаборатории в академических институтах, а начиная с 30-х годов все настойчивей стали прорываться и в саму Академию наук.
Уже с конца 20-х – начала 30-х годов выкованные в Коммунистической академии марксистские кадры да окрепшие и вошедшие в образ ученых шариковы из «выдвиженцев» и «рабочих-аспирантов» начали невиданную «культурную революцию», а проще говоря, открытую классовую войну на научном фронте. Это было, разумеется, лишь идеологической ширмой. На самом деле, эти ученые-марксисты начали смертельную схватку за свою науку, за то, в чем они были сильны, а вследствие поверхностной образованности искренне полагали, что с помощью диалектического и исторического материализма они быстро раскроют все тайны мироздания: от строения атомного ядра до механизма наследственности.
Науку, как выразился Л. Радзиховский, стали «грубо и с бранью заталкивать в марксизм», а тех, кто сопротивлялся, сдавали в ОГПУ и с облегчением вздыхали: еще одним «вредителем» стало меньше. Все эти порожденцы советской науки, кто явно, а кто стесняясь, стали своеобразным ГПУ научной мысли [298]. От подобного, не совсем почтенного амплуа им было не отвертеться: не для того рабоче-крестьянская власть учила их, не для того держала на своей шее, чтобы они, захватив командные посты в науке, не очистили ее от буржуазной накипи.
Все они прочно еще с университетской скамьи усвоили непреложные истины советской науки. Наука эта:
во-первых, народная (ее истины должны быть понятны любому, даже неграмотному человеку);
во-вторых, советская наука – партийная, причем всякая;
в-третьих, советская наука материалистична и служит практике народного хозяйства;
в-четвертых, советская наука – плановая, ее развивают по заранее утвержденному директивными органами плану.
Наконец, одно из самых важных сущностных начал советской науки – она является классовой и отношение к работникам науки также, разумеется, классовое.
Именно этими болячками, став советской, повредилась российская наука. Все их мы описывать не будем, поясним лишь одну – что означал ее плановый характер. Идеологом и непримиримым борцом за планирование науки был Н.И. Бухарин. Логика его была предельно проста: социализм мы строим впервые в мире, строим «от ума», а следовательно, по плану. Наука для нас, коммунистов, является «всепроникающим» принципом и методом строительства социализма, ибо все наши практические шаги имеют научное обоснование.
Вывод, отсюда напрашивающийся, очевиден: науку надо планировать. «Мы должны, – говорил Бухарин, – со всей решительностью, со всей твердостью, со всей последовательностью, самым крупным образом повернуть сеть наших научно-исследовательских учреждений в сторону социалистической реконструкции и обороны страны» [299].
Бухарин добился того, что внедрил-таки в головы строптивых «буржуазных ученых» необходимость планировать свою работу. Задумано все это было, конечно, не только для лучшей координации научно-исследовательских работ и ориентации их на решение первоочередных задач социалистического строительства. Когда научная работа спланирована, легче было организовать и контроль за умонастроениями ученых.
НИС ВСНХ СССР (им руководил Бухарин) 6 – 11 апреля 1931 г. впервые в истории провел Всесоюзную конференцию по планированию науки. Участвовало в ней 930 ученых. Главный докладчик, само собой, Бухарин. Вот чему он учил работников научного фронта: позиция советской науки находит свое выражение в лозунге: «…всё на службу великому социалистическому строительству и обороне пролетарской страны. Этот лозунг есть центральная директива всей плановой научно-исследовательской работы, альфа и омега, начало и конец премудрости, определяющая всеобщая установка» [300]. Подобного рода «установки», как нетрудно догадаться, даже в то время никакого содержательного смысла не имели. Они справедливо воспринимались только как очередная устрашающая партийная директива.
Была, однако, у Бухарина еще одна, уже не столь бессодержательная мысль. Она – «ноу хау» большевизма, их открытие, коим они долгие годы гордились: «Наука вырастает из практики, из практики хозяйства и практики классовой борьбы» [301] (Курсив Бухарина. – С.Р.).
Еще одна новоявленная сущность именно советской науки – крайне низкая эффективность как прямое следствие ее экстенсивного развития, полная невостребованность результатов научного поиска и, наконец, катастрофический разрыв между декларациями партийного руководства и реальным делом.
Непреодолимые барьеры между наукой и производством породили, с одной стороны, необходимость централизованного планирования, а с другой стороны, полное отсутствие экономической заинтересованности обеих недолюбливающих друг друга сторон. Оставались лишь дежурные слова, само же дело ассимиляции производством достижений науки при социализме не могло быть сдвинуто с мертвой точки принципиально [302].
Из-за подобного экономически неестественного положения науки как «государевой служки» и возникла проблема «внедрения» научных разработок в годами функционировавшие технологические схемы производства. А чтобы этот надуманный процесс был более заметен руководству, научные задачи стали напрямую выводить из нужд промышленности. Даже в Академии наук фундаментальная наука все меньше и меньше отличалась от разработок отраслевых НИИ [303].
В 1977 г. Л.В. Канторович подсчитал, что если в 1966 г. за счет внедрения науки в производство национальный доход в СССР вырос на 2,2 %, то уже к 1976 г. этот показатель упал до 0,8 %. Причина очевидна: сказался результат экстенсивного и экономически уродливого развития советской науки.
Академик Н.Н. Моисеев подтверждает, что одним из главных симптомов упадка науки уже в 60-х годах отошедшего столетия было «состояние дел с вычислительной техникой». Именно в этом, стоящем на самых передовых рубежах развития научной мысли, сфокусировалась «вся несостоятельность нашей общественной организации и неспособность общества остановить свой бег к неизбежной катастрофе» [304]. И далее очень для нас важные слова: как только начался переход от ламповых ЭВМ к транзисторным компьютерам, наша «бюрократизированная, расписанная по отраслям-монополис-там экономика была неспособна принять этот вызов научно-технической революции – он оказался для нее не просто неожиданным, а смертельным» [305]. Теперь мы и от США, и от Японии, и от Южной Кореи отстали в этом вопросе принципиально. Это означает, что уже никогда мы не сравняемся с ними в технологии производства современных компьютеров.
Как же такое могло произойти в стране, развивающей науку «по всему фронту», не жалевшей ни сил, ни средств на ее развитие? Очень просто. В годы господства у нас социалистической модели экономики, особенно когда социализм показался партийному руководству «развитым», пропорции в народном хозяйстве регулировались не естественным образом, т.е. посредством рыночных механизмов, а в основном волевым порядком, на основании «так надо» или «так хочу». Потому и сформировалась у нас наука с отчетливым военным флюсом. Деньги же на ее развитие забирались у нищего населения, разоренной деревни, у убогой сферы услуг. Но и эти деньги не приносили нужного эффекта: большая часть отчетов по наиболее важным для народного хозяйства темам шла «на полку» отнюдь не всегда по причине принципиального отторжения производством научных инноваций, скорее потому, что эти инновации никакого интереса для производства не представляли [306].