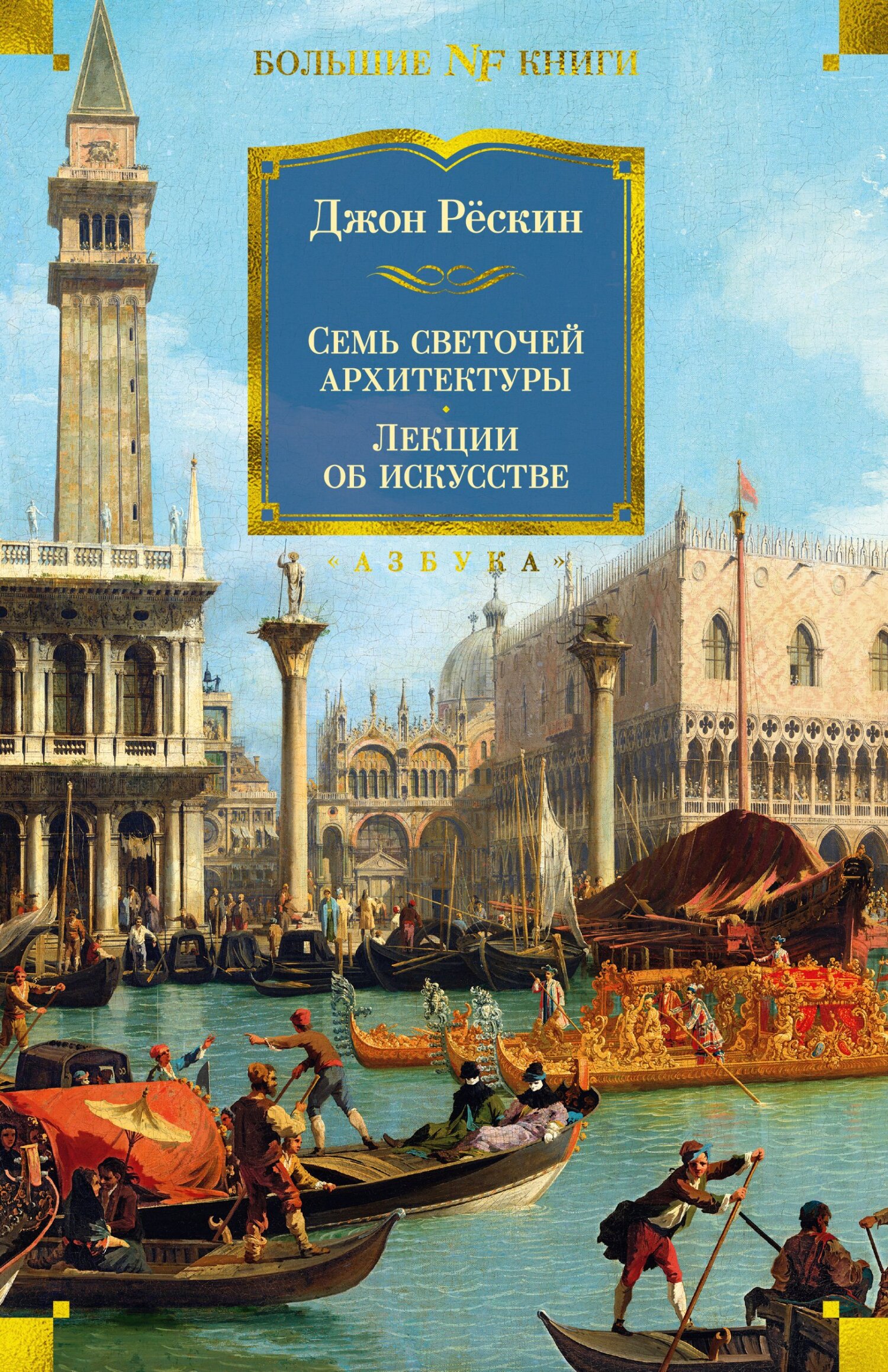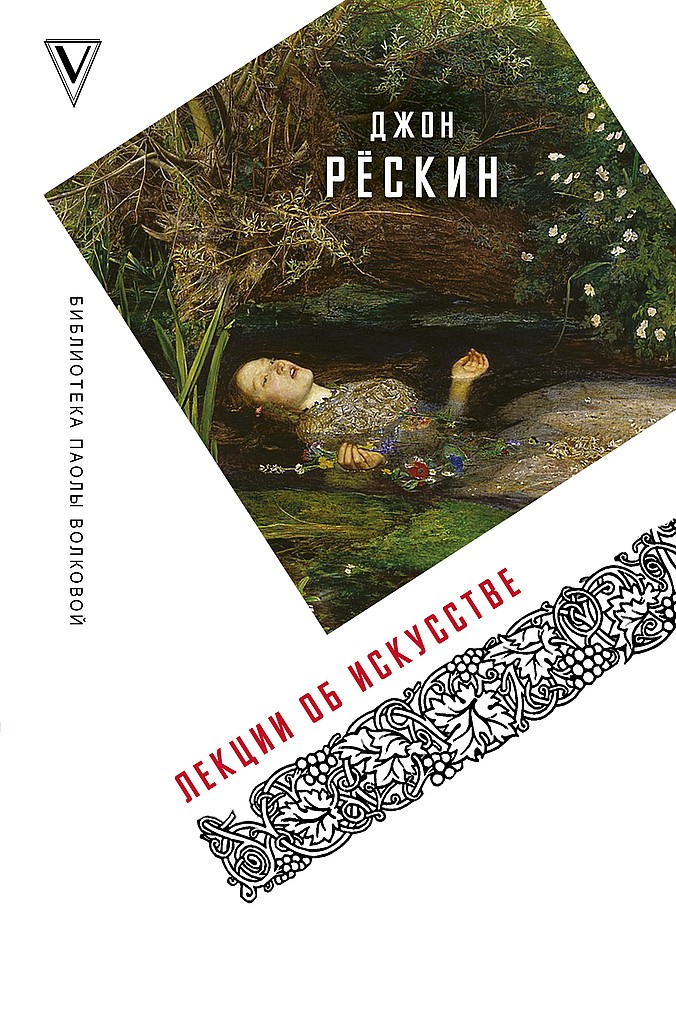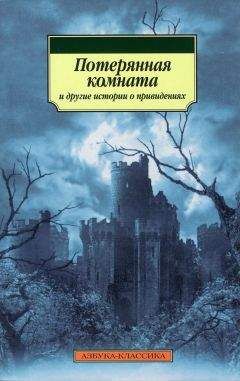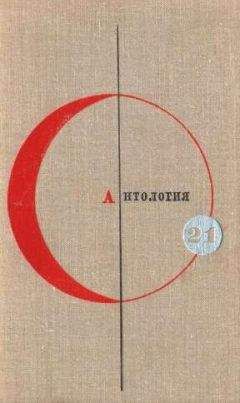какого звания, целесообразно и благоразумно, но назойливо напоминать об этом снова и снова, куда бы они ни кинули взгляд, – значит выказывать дерзость и, наконец, глупость. Посему пусть изображения герба целиком встречаются лишь в немногих приличествующих оным местах и рассматриваются не как декоративные элементы, но как надписи, а для многократного применения надлежит выбрать один простой и ясный геральдический символ. Таким образом, мы можем сколь угодно часто использовать изображения французской или флорентийской лилии либо английской розы, но не должны множить изображения гербов.
IX. Из вышеизложенных рассуждений следует также, что наихудшим из всех геральдических декоративных элементов является девиз на гербе, ибо, наверное, на свете нет ничего более ненатурального, чем очертания букв. Даже сильванит или полевой шпат в чистом виде имеют внятную и стройную кристаллическую структуру. Посему все буквы надлежит признать уродливыми формообразованиями и использовать только при крайней необходимости – то есть в местах, где надпись представляется более важной, чем простой орнамент. Надписи в церквях, залах и на картинах зачастую желательны, но не должны рассматриваться как элемент, призванный украсить произведение архитектуры или живописи. Напротив, они раздражают и оскорбляют зрение и потому допустимы лишь там, где выполняют свое прямое назначение. А значит, любые надписи следует помещать только в таких местах, где их можно прочесть, и ни в каких других; причем писать оные надобно отчетливо, не вверх ногами и не задом наперед. Красота только страдает от попыток в угоду ей сделать невразумительным нечто, единственное достоинство чего состоит в заключенном в нем смысле. Пишите, как говорите: без лишних изысков; и не старайтесь привлечь к надписи взор, который с радостью остановится на любом другом предмете, а равно не рекомендуйте вниманию зрителя начертанную на стене фразу иначе, как небольшим пустым пространством и архитектурным безмолвием вокруг нее. Пишите заповеди на стенах церкви на видном месте, но не украшайте каждую букву завитками и хвостиками; и помните: вы архитектор, а не каллиграф.
X. Похоже, иногда надписи вводятся в композицию единственно ради свитков, на коих они начертаны; а на витражах позднейшего и нынешнего времени, равно как и на стенах зданий, означенные свитки украшены завитушками и развернуты то так, то эдак, словно они являются орнаментальными элементами. В арабесках – порой поистине восхитительных – часто встречаются изображения лент, перевязывающих цветы или петляющих между разного рода ритмически упорядоченными фигурами. Существует ли в природе некое подобие ленты? Естественными прообразами последней можно счесть траву и водоросли. Но они таковыми не являются, ибо по своему строению существенно отличаются от любой ленты. У них есть скелет, анатомия, центральная жилка, или фибра, – то есть некая внутренняя структура, имеющая начало и конец, верх и низ, характер и сила которой определяют направление каждого их движения и каждую линию изгиба. Даже самые, казалось бы, безжизненные водоросли, несомые течением по морским волнам или тяжело свисающие со скользких бурых прибрежных скал, имеют ярко выраженную структуру, обладают прочностью и эластичностью, являют неоднородность строения: волокна на концах у них тоньше, чем в середине, а корневая часть толще срединной; каждое ответвление от стебля соразмерно и пропорционально целому; каждый плавный изгиб линии восхитителен. У водоросли есть свой, раз и навсегда для нее установленный размер, свое место, свое предназначение; это особое творение природы. Разве у ленты есть нечто подобное? Она не имеет структуры, ибо представляет собой лишь однообразные ряды переплетенных нитей, совершенно одинаковых; у нее нет скелета, нет формы, нет определенного размера, нет собственной воли. Вы произвольно обрезаете ее до нужной вам длины и втискиваете, куда вам заблагорассудится. В ней нет внутренней силы, нет томного движения жизни. Она не может сама принять целостную изящную форму. Она не может красиво развеваться на ветру, а может лишь судорожно трепыхаться; она не в состоянии лечь красивой волнистой линией, а может лишь нелепо изломиться и смяться; самим фактом своего жалкого существования она портит все, с чем соприкасается. Никогда не используйте ленту в качестве орнаментальной детали. Пусть лучше цветы свободно рассыпятся в стороны, коли не в состоянии удержаться вместе, не будучи перевязанными; пусть лучше фраза останется ненаписанной, коли вы не можете начертать ее на табличке, книге или простом пергаментном свитке. Я знаю, какие авторитеты выступают против меня. Я помню свитки в руках ангелов Перуджино и ленты в арабесках Рафаэля и в великолепных бронзовых цветах Гиберти, но это не имеет значения, ибо все они несовершенны и уродливы. Рафаэль обычно чувствовал это и чаще разумно использовал простую табличку, как в «Мадонне Фолиньо». Я не говорю, что в природе существует прообраз подобной таблички, но вся разница здесь состоит в том, что последняя не воспринимается как орнаментальный элемент – в отличие от ленты или развитого свитка. Табличка (как, например, в «Адаме и Еве» Альбрехта Дюрера) вводится в композицию исключительно с целью представить начертанное на ней изречение и потому оправдывается и допускается как уродливая, но необходимая деталь. Свиток же неизменно используется в качестве декоративного элемента, каковым он не является и не может являться.
XI. Но мне скажут, что подобное отсутствие внутренней структуры и единства формы свойственно и драпировке, а последняя издавна служит благородным предметом скульптуры. Вовсе нет. Когда драпировка сама по себе служила предметом скульптуры, кроме как в виде платков на погребальных урнах семнадцатого века да в некоторых низкопробных итальянских театральных декорациях? Драпировка как таковая всегда есть предмет низменный; она представляет интерес только благодаря своей цветовой гамме и очертаниям, которые получает от некой чужеродной формы или под воздействием внешней силы. Все превосходные драпировки в произведениях живописи или скульптуры (цвет и фактуру ткани мы сейчас не рассматриваем), покуда они являются чем-то бóльшим, нежели просто необходимым элементом, выполняют две чрезвычайно важные задачи: создают впечатление движения и силы тяготения. Они суть ценнейшее средство для передачи предшествующего и настоящего движения фигуры и практически единственное средство, позволяющее явить глазу силу земного притяжения, противодействующую такому движению. Греки применяли драпировку в скульптуре главным образом как необходимый уродливый элемент, но охотно пользовались оной для создания иллюзии движения, нарочито приумножая складки, указывающие на легкость ткани и повторяющие жестикуляцию фигуры. Христианские скульпторы, не обращавшие внимания на человеческое тело или питавшие к нему неприязнь и интересовавшиеся единственно лицом, поначалу видели в драпировке исключительно покров для наготы, но вскоре открыли в ней возможности, не замеченные или пренебрегнутые греками. В первую очередь речь идет о полном устранении всякого