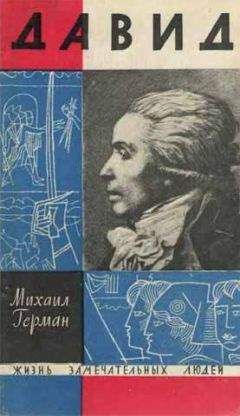малый (un original garçon) этот Дега, болезненный, нервный… создание в высшей степени чувствительное, улавливающее самую сокровенную суть вещей. Я никогда прежде не видел человека, который, копируя современную жизнь, лучше схватывал бы ее душу»
[116].
И все же среди картин конца шестидесятых, в какой-то мере замыкающих череду предвоенных шедевров, должны опять быть названы картины Эдуара Мане.
Это, разумеется, «Балкон» (1868–1869, Париж, Музей Орсе) и «Завтрак в мастерской» (1868, Мюнхен, Новая пинакотека). Пурист скажет, что картины эти не так уж близки радикальным принципам утверждающегося импрессионизма. Но значение их шире, а качество — абсолютно.
«Балкон» можно, вероятно, упрекнуть в некотором «дендизме стиля»: безупречная светскость действующих лиц, продуманные испанские ассоциации, открытый эстетизм. Художнику важны были не только живописный эффект, не только визуальная красота пятен, но и приятность ситуации, лиц и костюмов, за которой само искусство не так уж и видно. Можно было бы объяснить эти качества некоторой отстраненной иронией (она, конечно, присутствует в картине, но самую малость) или вниманием к характерам, выписанным остро и с увлечением. Но право же, Мане не нуждается в снисхождении историков. Он всегда писал так, как хотел и как видел. Возможно, он устал от дерзких экспериментов, возможно, просто увлекся мотивом и моделями. Картина великолепна, как «Ложа» Ренуара, и свидетельствует если и не о смелости в выборе мотива, то о приближении к совершенному артистизму. Артистизму, свободному на этот раз даже от возвышенной и продуманной небрежности, столь привлекательной в искусстве Мане. В самом деле, картина отличается непривычной законченностью, с которой виртуозно сочетаются свобода кисти и сила общего впечатления.
Это своего рода «картина-травести» — реальные люди играют словно бы в масках иных, чем они, персонажей, будто представляя «живую картину» отчасти в испанском духе — «Театр Клары Гасуль» в пору Второй империи. Разумеется, здесь очевидно воздействие Гойи — его «Махи на балконе» в самой основе пластического мотива. Вероятно, прав Жан Адемар, предположивший, что Мане видел один из вариантов картины Гойи «Махи на балконе» на аукционе в Саламанке, проходившем 3–6 июня 1867 года [117].
Он писал первый эскиз картины в городе Булонь-сюр-Мер в пору особо значимого для него знакомства с Бертой Моризо — одаренной художницей, женщиной редкой привлекательности. Их совсем недавно познакомил в Лувре Фантен-Латур, но живопись ее Мане высоко оценил еще ранее и даже отчасти повторил мотив ее картины в своем пейзаже «Вид Всемирной выставки 1867 года» (1867, Осло, Национальная галерея). Сказать сейчас, была ли Берта Моризо действительно хороша, затруднительно: критерии изменились, фотографии скорее обманывают. Современники отзывались о ней восторженно — об облике, манерах, интонациях, голосе. Валери (он был женат на племяннице Берты Моризо Жанне Гобийар) писал о «всегда изящно одетой женщине» «с лицом прозрачным и волевым, на котором написано было почти трагическое выражение». «Все дышало разборчивостью в ее манерах и ее взгляде» [118], — добавляет он. На холстах Мане она и в самом деле обворожительна. В ней чудится отдаленное, но очевидное сходство с Викториной Мёран, скорее типологическое, нежели действительное, — сходство, которое трудно определить словами: Викторина проста, Берта Моризо более чем рафинированна, но в потаенной глубине обеих и в облике их есть нечто странно близкое.
В силу многих не вполне ясных обстоятельств, а возможно, и стечения случайностей Берта Моризо и Эдуар Мане, восхищавшие друг друга (как художники тоже!) и несомненно взаимно влюбленные, остались лишь друзьями и собратьями по искусству (позднее Берта вышла замуж за брата Эдуара Мане — Эжена), что напитало особым напряжением многочисленные ее портреты кисти Мане. Забегая вперед, можно назвать портрет «Берта Моризо с букетом фиалок» (1872, Париж, Музей Орсе) и признанием художника, и одной из вершин его живописи.
Здесь тоже невозможно обойтись без цитаты из Валери, посвятившего этому портрету удивительный отрывок: «Всемогущество этих черных тонов, простая холодность фона, бледные или розовеющие отсветы тела…» [119]
В «Балконе» уже мерещится это прикосновение к очень личному ощущению персонажа. Призрак романтической тайны странно соединен со светским «предстоянием» персонажей: Берта Моризо, Фанни Клаус, скрипачка из квартета Св. Цецилии (близкая подруга одного из приятелей Мане), художник Антуан Гийме и — в полутемной глубине комнаты — сын Сюзанны Ленхоф и Эдуара Мане Леон Коэлла.
Картину нетрудно интерпретировать и как отстраненное изображение изысканнейшей по цвету, лишенной психологической интриги сцену, и как ледяную сатиру на праздных и скучающих буржуа-интеллектуалов, синтезированную с колористическим экспериментом. Персонажи не смотрят ни на улицу, ни друг на друга, они существуют как визуальная данность. Действия нет, как нет и никакой эмоциональной связи между героями, царствует лишь «триумф силуэта и пространственного построения планов» [120].
Эдуар Мане. Балкон. 1868–1869
На первом месте обычная для Мане совершенная композиционная архитектоника: два будто просвечивающих друг сквозь друга ромба — один образован светлыми силуэтами женских фигур и как бы соединен светлыми же пятнами рук стоящего мужчины; другой — вся группа в целом, виртуозно разорванная темным вертикальным зигзагом. Но главное — вся эта странная стройность, вся эта суровая рафинированность пятен, валёров и цветовых сочетаний, эта горькая гармония черного, молочно-платинового и зеленого, в которой угадывается цветовое выражение состояния души главной героини. Не «психологический портрет», но, если угодно, цветовой эквивалент не выраженных внешне, неясных, но сильных страстей.
Как часто живопись предвосхищает литературные образы и мотивы! Она не продуцирует, а просто угадывает их, и, сочиняя свои светские новеллы о суетных и легкомысленных аристократках, Мопассан не думал о картинах Мане, да скорее всего и не знал о них. Просто два гения ощутили одни и те же точки напряжения, страдание и горечь, ведомые самым беспечным созданиям, увидели роскошь и беспечность, круто смешанную с болью. И оба сумели вплавить все это в «вещество искусства», спасающее и зрителя, и автора от груза моральных проблем.
В соприкосновении искусства Мане и Мопассана (о нем еще будет случай вспомнить, когда речь пойдет о картине «Бар в „Фоли-Бержер“» Мане) особенно остро видится это уже упоминавшееся в начале книги пронзительное качество и устремление французского искусства: к истине, но не к морали.
Эдуар Мане. Завтрак в мастерской. 1868
«Балкон» и «Завтрак в мастерской» — единственные картины, где Мане скупо приоткрывает