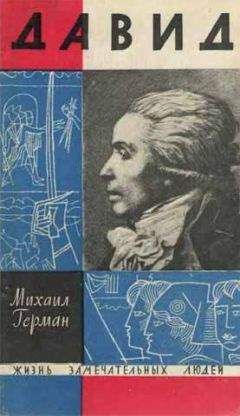о Рио-де-Жанейро вряд ли ассоциировались у Мане с обстановкой, в которой разворачивалась эта абсурдная трагедия. То, что он писал, было очевидной фантазией, основанной на впечатлениях от «Расстрела» Гойи, фотографиях и собственном воображении.
Какую-то роль могли, наверное, сыграть и политические пристрастия Мане, он, несомненно, сочувствовал позиции Соединенных Штатов — тому свидетельство и интерес к морскому сражению северян с южанами («Бой „Кирседжа“ и „Алабамы“»). Возможно и вполне прозаическое объяснение: помня о недавнем успехе этой картины и чувствуя провал выставки в бараке у моста Альма, он снова сознательно обратился к злободневной, даже конъюнктурной теме, бурно обсуждавшейся во Франции. Это, казалось, обещало зрительский интерес и успех.
Картина (хотя Мане писал сюжет не с натуры и не по памяти), однако, не получилась надуманной, напротив, в ней есть отрешенная достоверность, странное возвышенное равнодушие: ни сочувствия, ни праведного гнева, ни удовлетворения справедливостью возмездия. Но, как все у Мане, картина бесконечно красива, в ней — суровая, простая и жесткая гармония, безупречный вкус и неизбежная, а здесь особенно естественная дистанция. Поэзия видимого (хоть и сочиненного), но вряд ли пережитого.
Принятый в Латинской Америке расстрел в упор (именно этим, а не пространственными новациями, как предполагали некоторые авторы, объясняется мизансцена картины) — зрелище, несомненно, жестокое и лишенное всякой, даже брутальной, романтической или трагичной, эстетики.
В картине — ни героев, ни праведников, ни палачей. Все это — за пределами искусства Мане.
Солдаты равнодушно выполняют страшный долг, еще более равнодушен унтер-офицер, заряжающий ружье, тот, чья обязанность — производить «контрольный» выстрел, если не все приговоренные умерли сразу. Стреляют в генерала, стоящего слева, император и другой генерал почти безучастны к происходящему. Группа приговоренных показана с долей романтической возвышенности, но мрачное зрелище не трагично — просто бесстрастный визуальный эпос. Живопись Мане не может не быть красивой, но здесь эти гармонии тусклых оттенков сепии, темно-дымчатых и пепельно-синеватых пятен становятся странным «эстетическим аккомпанементом» сцене, от которой трудно не ждать этической позиции. Однако в картине — ни грана боли, в ней нет пластического напряжения, скрытых эмоциональных пружин, композиция стройна и выразительна, как фиксация точно выстроенной мизансцены, равно как и чисто пластической гармонии: фигуры солдат в темных мундирах образуют рафинированную по тональности и очертаниям сложную группу, а их белые пояса и портупеи создают не менее изысканную линейную игру.
Отсюда парадоксальное ощущение решительно новой функции живописи как некоего прежде всего художественного свидетельства. Эстетизируется решительно все, и вместе с тем сохраняется высшая степень объективности и независимости искусства: его пластические и колористические качества не подчиняются сюжету.
Оттенок той же отрешенной печали, отчасти снятой эффектом искусства, сохранится и в тех работах Мане, которые он сделает в дни Коммуны.
При всей нейтральности сцены картина была практически запрещена, как и сделанная по ней литография. Если Мане полагался на ситуационный успех, то здесь его ждало полное фиаско. На персональную выставку она не была допущена именно из-за политической злободневности, на которую уповал Мане. Не была она принята и в Салон 1868 года — по настоянию жюри ее заменили очередным этюдом, написанным с Викторины Мёран. Впрочем, там был представлен и превосходный портрет Золя.
Поразительно, сколь несгибаем Мане, да и все они, его соратники, единомышленники, ученики. Чудится, их искусство сохраняет божественную независимость от преследующих их несчастий. Даже смерть Бодлера, несомненно перевернувшая душу и жизнь Мане, на его искусстве никак не сказалась. Иные времена: искусство свободно от всего, даже от страданий своего творца.
Остается добавить, что спустя десять с лишним лет, в 1879–1880 годах, картина эта стала первым произведением новой школы, показанным и высоко оцененным в Нью-Йорке и Бостоне (певица Эмили Амбр добилась у художника разрешения показать эту работу в Америке, куда она отправлялась на гастроли).
Для будущих импрессионистов конец шестидесятых — время шедевров. Писсарро написал «Дилижанс в Лувсьенне», Моне и Ренуар работали на берегах Сены («Лягушатня»). Базиль завершает, вероятно, самую масштабную (152×230 см) свою работу, полную противоречий, но еще более артистизма и мужающего таланта: «Семья», скорее — «Семейное собрание» или «Семья в сборе (Réunion de famille)» (1867, Париж, Музей Орсе). Одиннадцать членов семьи — точно и сдержанно написанные портреты провинциальной буржуазной знати, не лишенной ни благородной простоты, ни серьезной значительности, ни некоторой напыщенности, всего понемножку и всего в меру. Базиль выступает здесь отстраненным, не настойчивым, но рафинированным психологом. Его кисть открывает характеры с вежливой непреклонностью, ни на секунду не упуская из виду цельность и силу общего светоцветового эффекта. В этой сцене на террасе в поместье Мерик, близ Монпелье, где Базиль писал так часто и охотно, он синтезирует привязанность к юношеским ассоциациям, конкретным людям с новыми живописными идеями. Свободная сила мизансцены, построенной в сложном и безошибочном пересечении диагоналей, образующих и объединяющих очертания групп разных пространственных планов, основана на благородном сочетании звучных, уплощенных пятен одежды — сине-сизых, тускло-голубых, черных; на выверенном ритме пятен неба меж ветвями деревьев, поддержанных, как визуальным эхом, солнечными пятнами на земле. А там, в глубине, — «импрессионистическая даль», окно в живопись будущего, которое Базилю суждено было лишь приоткрыть. Странная, чудящаяся сознательной стилизацией почти ренессансная церемонность поз оборачивается чисто формальным художественным ходом, благодаря которому «психологический групповой портрет» становится утонченной вариацией открытий Мане и Моне. И кажется, нужно совсем немного, чтобы молодой мастер сделал еще один шаг к подлинному величию. Знание его судьбы, ранней гибели, естественно, заостряет современное восприятие и придает особое значение последним его работам. Картина эта была принята в Салон 1868 года. Тогда же написана была им и самая, пожалуй, знаменитая его работа «Вид деревни» (1868, Монпелье, Музей Фабра), где контраст почти наивного портрета первого плана и мощно и широко написанного пейзажа, угадывающего пространственные и колористические открытия Сезанна, способен ошеломить даже самого подготовленного зрителя [113].
Фредерик Базиль. Семья. 1867
В том же году — Огюст Ренуар, «Портрет Альфреда Сислея с женой» (1868, Кёльн, Музей Вальрафа — Рихарца). Вещь принципиальная для нового понимания поэтики и стиля этого художника.
В наивном и бесконечном восхищении зримой прелестью жизни Ренуар, как никто, умел приходить в восторг даже от банальности и эту банальность