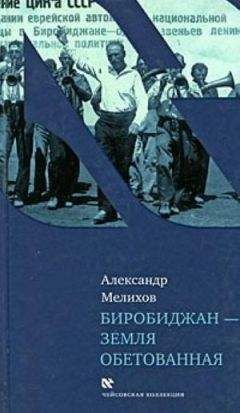несомненно уже не реальным человеком из плоти и крови, но легендой. Особенно среди прогрессивно настроенной провинциальной интеллигенции. Это был образ даже не борца с режимом, а скорее олимпийца: власть постоянно осыпала его критическими стрелами, а он продолжал творить и печататься, демонстрируя тем самым, что пребывает за пределами досягаемости.
Это был представитель культурного Запада в Советском Союзе, бесстрашно предложивший распространить принцип мирного сосуществования на сферу культуры. И вместе с тем последний дореволюционный интеллигент, которого не сумело уничтожить серое советское чиновничество. Как-то забывалось, что главный советский плюралист и космополит, по его же гордому признанию, сам когда-то готовил революцию в качестве подпольщика. Правда, после положенных отсидок и высылок унесши ноги в канонический Париж, социал-демократический Павел внезапно преобразился в декадентского Савла со всеми положенными метаниями от религиозности и эстетства к тотальной мизантропии: «Я пью и пью, в моем стакане / Уж не абсент, а мутный гной».
Однако с первыми же известиями о «бархатной» весенней революции Илья-лохматый, как его называл сам Ленин, устремился в Россию, уже в первые ее окаянные дни принявшись слагать православно-имперские «Молитвы о России» – хоть сейчас в пропаганду КПРФ:
С севера, с юга народы кричали:
«Рвите ее! Она мертва!»
И тащили лохмотья с смердящего трупа.
Кто? Украинцы, татары, латгальцы.
Кто еще? Это под снегом ухает,
Вырывая свой клок, мордва.
Но уже в двадцать первом Эренбург (с советским паспортом в кармане) снова оказался за границей и в течение одного летнего месяца написал свой первый и лучший роман «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников». Эренбург наконец-то нащупал главный свой талант – талант скепсиса, талант глумления над лицемерием и тупостью всех национальных и политических лагерей. Не щадя и собственной персоны: герой-рассказчик по имени Илья Эренбург – «автор посредственных стихов, исписавшийся журналист, трус, отступник, мелкий ханжа, пакостник с идейными задумчивыми глазами». При этом, если из двух слов «да» и «нет» потребуется оставить только одно, дело еврея держаться за «нет». С этим лозунгом Эренбург мог бы сделаться советским Свифтом, но эпоха требовала не издеваться, а воспевать себя, к чему Эренбург был наименее приспособлен природой своего отнюдь не бытописательского дарования. Он, если угодно, был певец обобщений, что настрого воспрещалось в эру идеологически выдержанного неопередвижничества.
В 1922 году в книжке «А все-таки она вертится!» (Москва – Берлин) Эренбург в совершенно футуристическом и едва ли даже не фашистском духе воспел «конструкцию», волю и душевное здоровье, граничащее с кретинизмом. Но – человеческую душу невозможно насытить никакой фабричной продукцией, тут же явственно давал понять «Романтизм наших дней». Особенно душу еврейскую («Ложка дегтя»): «Народ, фабрикующий истины вот уже третье тысячелетие, всяческие истины – религиозные, социальные, философские… этот народ отнюдь не склонен верить в спасительность своих фабрикатов».
Все двадцатые Эренбург, подобно Вечному жиду, пропутешествовал по Европе, издавая сразу на многих языках книги превосходных очерков о королях автомобилей, спичек и грез (Голливуд), неизменно скептической интонацией давая понять, что пекутся все они о суете, – не прилагая этот скептический кодекс к тоже не вполне одетым королям Страны Советов: в стране восходящего солнца Беломорканала тревогу и брезгливость у него вызывает отнюдь не террор и подавление всех свобод, а все больше «мелкособственническая накипь», поданная в манере крепкой очеркистики. Культура же изображается расслабляющим наркотиком (а большевики схематичными, хотя и честными болванами).
Эренбург и в тридцатые беспрерывно колесил по Европе, но пафос его очерковой публицистики и публицистической прозы становился все проще: фашизм наступал, и Эренбург становился все менее и менее требовательным к его противникам. Как всякий эстет, сформировавшийся в благополучное время, он долгое время ощущал своим главным врагом пошляка и ханжу, но когда на историческую сцену вышли свободные от лицемерия убийцы, при слове «культура» не только хватающиеся за пистолет, но и стреляющие без всяких раздумий, Эренбург понял, что время капризов и парадоксов миновало, и принялся верой и правдой служить наименьшему злу.
А после Двадцать второго июня превратился в ветхозаветного пророка: «Мы поняли: немцы не люди». «Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей», – призывал Симонов, но Эренбург в интимной лирике «для себя» говорил не об отдельном немце – о стране:
Будь ты проклята, страна разбоя,
Чтоб погасло солнце над тобою,
Чтоб с твоих полей ушли колосья,
Чтобы крот и тот тебя забросил.
Чтоб сгорела ты и чтоб ослепла,
Чтобы ты ползла на куче пепла…
«Если дорог тебе твой дом», – таков был зачин знаменитого симоновского стихотворения, но Эренбург постоянно напоминал солдатам, что сражаются они не только за свой дом, но и за все человечество, за всю европейскую культуру: «Защищая родное село – Русский Брод, Успенку или Тарасовку, воины Красной Армии одновременно защищают «мыслящий тростник», гений Пушкина, Шекспира, Гете, Гюго, Сервантеса, Данте, пламя Прометея, путь Галилея и Коперника, Ньютона и Дарвина, многообразие, глубину, полноту человека». И этот космополитизм, возвышавший читателя в его собственных глазах, сделал «сомнительного» Эренбурга любимцем и фронта, и тыла, в том числе и немецкого: в одной партизанской бригаде был издан специальный приказ, запрещавший пускать на самокрутки газеты со статьями Эренбурга. Он получал тысячи писем от фронтовиков и скрупулезнейшим образом отвечал на каждое: в те годы Эренбург был гением советского просвещенного патриотизма.
После войны – «борьба за мир», загранпоездки, выступления, статьи, неизменно «отмеченные высокой культурой» и даже во многом справедливые, если забыть, что разоружаться предлагалось лишь одной стороне. В сорок седьмом Сталинская премия за толстенный и скучнейший соцреалистический роман «Буря», в пятьдесят втором – год расстрела Еврейского антифашистского комитета – Международная Ленинская премия «За укрепление мира между народами».
Высочайший авторитет в еврейских кругах, Эренбург был против любых еврейских объединений, хоть сколько-нибудь напоминающих гетто, но, когда после «дела врачей» в 1953 году над русским еврейством нависла опасность какого-то качественно нового витка гонений, он сумел приостановить руку «красного фараона» – которую тут же перехватила сама смерть. Сигналом к атаке должна была послужить публикация в «Правде» некоего письма, подписанного всеми знатными советскими евреями: советская власть-де дала евреям все, а они платят за это черной неблагодарностью, сохраняя приверженность буржуазному национализму…
Однако Эренбург в роковую минуту догадался сделать гроссмейстерский ход – мгновенно настучал письмо Верховному Режиссеру, сумевши найти безупречные идеологически, но при этом и убедительные прагматически дипломатические формулы, которых ему и посейчас не могут простить ни сионисты за отрицание самого существования еврейской нации, ни благородные интеллигенты из самопровозглашенного